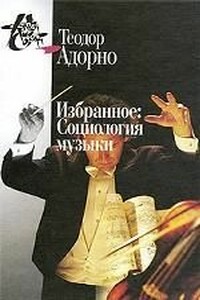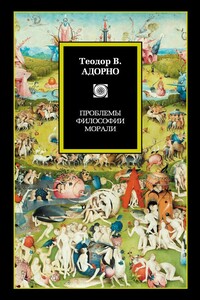Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 101
Если же, однако, всё это отмести и попытаться изобразить сферу политики в ее абстрактности и внечеловечности, исключив обманчивое посредничество внутреннего начала, выйдет отнюдь не лучше. Ибо как раз сущностная абстрактность того, что действительно происходит, решительно отказывается становиться частью эстетического образа. Чтобы вообще иметь возможность придать ей выражение, поэт ощущает себя вынужденным перевести ее на своего рода детский язык, преобразовать в архетипы и, таким образом, вторично «преподнести» – уже не вчувствованию, а тем инстанциям постигающего рассмотрения, которые предшествуют еще самим языковым структурам и без которых не может обойтись даже эпический театр{221}. Апелляция к этим инстанциям формально санкционирует растворение субъекта в коллективистском обществе. Однако объект в результате такой работы по переводу искажается в ничуть не меньшей степени, чем искажена была бы религиозная война, если бы ее причины выводили из неутоленных эротических желаний королевы. Ибо столь же инфантильными, сколь и сама упрощенческая драматургия, являются сегодня как раз те люди, от изображения которых она открещивается. Однако политическая экономия, которую она вместо этого ставит себе задачей изобразить, неизменна в своем принципе – и всё же в каждом своем моменте столь дифференцирована и прогрессивна, что ее нельзя описать шаблонной притчей. Представления процессов, происходящих в сфере крупной промышленности, как взаимодействия вороватых торговцев овощами, может быть, и достаточно для достижения быстропроходящего шокового эффекта, однако недостаточно для диалектической драматургии. Вовсе не иллюстрирование позднего капитализма картинами из запаса сельскохозяйственных или криминалистических представлений позволяет уродству современного общества, прикрытому сложными феноменами, проявиться в чистом виде. Невнимание к этим феноменам, которые следовало бы прослеживать из самой сущности общества, как раз-таки искажает эту сущность. Оно истолковывает захват власти теми, кто сильнее, как безобидные махинации рэкетиров за пределами общества, а не как путь общества-в-себе к самому себе{222}. Однако невозможность изобразить фашизм проистекает из того, что ни в нем самом, ни в его рассмотрении более нет свободы субъекта. Полную несвободу можно распознать, но невозможно изобразить. В тех нынешних политических повествованиях, где в качестве мотива выступает свобода, например при восхвалении героического сопротивления, присутствует некая постыдность, как в бессильных уверениях. Финал всегда производит впечатление предрешенного большой политикой, тогда как сама свобода предстает в идеологическом свете, как будто речь о свободе, в формах стереотипной декламации, а вовсе не как соразмерные человеку деяния. После устранения субъекта вряд ли можно, набив его чучело, спасти тем самым искусство, а объект, который сегодня единственно был бы достойным искусства, то есть нечеловечное в чистом виде, ускользает от него вследствие одновременно несоразмерности и нечеловечности.