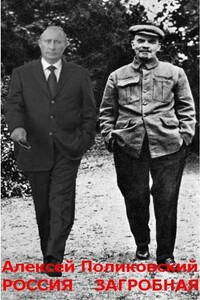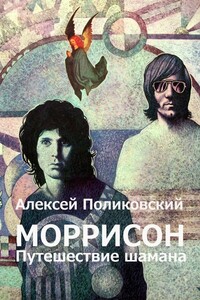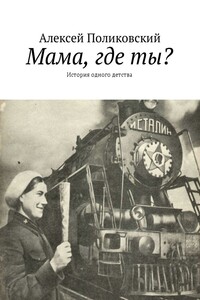Граф Безбрежный. Две жизни графа Федора Ивановича Толстого-Американца | страница 48
В этом домике жило счастье барина Нащокина. Он тратил на него и тратил. На обстановку и на радость жизни для невидимых человечков уходили капиталы, которые Нащокин унаследовал, а также его карточные выигрыши. Деньги для него были только способом превратить хочу в могу и только для этого и были нужны. Всего он потратил на домик сорок тысяч рублей, причем, тратя последнее, никогда не задумывался, где возьмет следующие деньги. На сорок тысяч он мог бы купить себе большой дом в Москве или поместье средних размеров, но этот человек жил вне понятия целесообразности и соразмерности. Он жил в неисчерпаемой вселенной, где жизнь бесконечна, дни проходят в приятных беседах, а деньги не кончаются никогда.
Цивилизация и комфорт, конечно, далеко ушли с той поры, когда — за сто лет до этого — светлейший князь Меньшиков, переезжая из одного своего дома в другой, из Санкт-Петербурга в Москву, целой вереницей обозов вывозил всю обстановку и утварь — стулья, диваны, шкафы, посуду, ложки, вилки. На два дома обстановки и утвари даже у богатого Меньшикова не хватало. Теперь же, во времена Нащокина и Толстого, мебели, посуды, стекла и фарфоровых фигурок, изображающих Психею и Амура, в России хватает на все благородное сословие. В комнатах девиц ставят арфы. Спальни в богатых домах все в зеркалах и золотой лепнине. Беломраморные столы и клавесины украшают покои. Мягким звоном в жарко натопленных залах бьют часы с музыкой.
Быт этих людей привольный, широкий, безалаберный. С утра, попивая кофе, — кофейник, молочник со сливками и сахарница подаются на серебряном подносе — помещик заказывает обед. После обеда, натянув колпаки, раскрыв рты, вся дворянская Россия спит, разметавшись на широких кроватях, на мягких перинах — девка в красном сарафане или казачок в мягких сапожках машут веером, отгоняя исключительно злобных мух. Европейский порядок и буржуазный расчет средств в Россию ещё не дошли. Чего считать-то? Тут всего в огромных количествах, и прежде всего — людей. Оттого здесь на воровство всегда смотрели сквозь пальцы — сколько не воруй, у нас все равно много останется! — и не очень-то вели счет людям. Иностранцы, попадавшие в Россию в годы перед нашествием Наполеона, потрясались обилию прислуги в помещичьем доме — прислуги видимо-невидимо, на все случаи жизни: отдельный человек зажечь свечу, отдельный потушить, отдельный подвести к крыльцу лошадь, отдельный снять сапоги, отдельный сапоги натянуть, отдельный истопить печь… Вся эта многочисленная прислуга суетилась, шебуршилась, бегала без толку, сидела, зевая, в коридорах на сундуках, ходила по полчаса из кухни в погреб и обратно, подавала квас в жару и чай в мороз, сушила на дворе грибы и рыбу, воровала из банок варенье и сплетничала про господ, которых называла «барин», «матушка» или даже «барышня матушка». В провинциальных усадьбах сказки в ходу, старушки рассказывали их не только детям, но и взрослым. Со сказками, как известно, засыпала в не столь уж давние времена императрица Елизавета Петровна, сказочников возил с собой, воюя с Фридрихом Великим, фельдмаршал Салтыков.