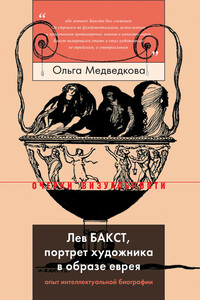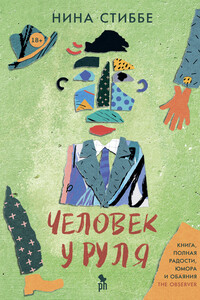Три персонажа в поисках любви и бессмертия | страница 107
Когда после четырех или даже пяти таких кругов растрепанный и раскрасневшийся Павел с шарфом, сбившимся набок, оказывался рядом с матерью, она вставала. Но ребенок делал вид, что не замечал этого и обегал – или, возможно, на этот раз именно обходил, нарочито замедляя шаг, – весь пруд еще раз, напоследок. Затем они шли домой. Проходя мимо Концертного зала, Павел снова просил мать, вот еще один, ну распоследний раз, быстро обогнуть его тучную округлость, в то время как из распахнутых окон вальяжного здания неслись звуки настраиваемых инструментов, обрывки фраз и смешенья невнятных гармоний.
Учился ли Павел музыке, мы не знаем. По некоторым, более поздним свидетельствам, нам известно, что музыку он любил, но как посторонний, так сказать снаружи, понимая только внешнюю, уже законченную ее сторону, только то действие, что производит она на душу, а отнюдь не внутреннюю ремесленную ее сделанность. То есть пользовался музыкой как человек, специально ей не учившийся. Так и порешим, что музыке Павел не учился. Учился же он последовательно и несомненно многочисленным языкам, как древним так и новым, и в последнем знании достиг изумительного совершенства, а именно знал их, включая и санскрит, никак не менее пятнадцати, а из новых как романские и германские, так и славянские. В связи с таким увлечением языками и этимологией – он был из тех детей, да и не только детей, для которых слова кажутся важнее вещей и живут своей отдельной жизнью, – нам и представляется – помимо прочих свидетельств, – что музыке его не учили, ибо кто занимается музыкой, этим языком языков, языком, попросту говоря, ангельским, тот вряд ли возьмется изучать столь изумительное количество языков различных народов.
Но это позднее. А пока возвращались они домой к ужину, и тут их встречал пан Януш в своем шелковом с кистью, полосатом шлафроке, в неизменно приятно пушистых усах и бакенбардах, расчесанных и слегка надушенных, и уже именно он в вечернее время занимался с мальчиком. Как это часто случается с эмигрантами, отец Павла одновременно любил до дрожи и ненавидел до судорог покинутую им родину. Ненавидел он ее за то, что ему в ней не нашлось места и что, выходя утром на улицу, он слышал вокруг себя этот невозможный, надменный, заикающийся язык, который он кое-как научился читать, и на котором он даже кое-как научился говорить, но понимать который он отказывался, ибо его анатомия, физиология и нервное устройство решительно ему это запрещали. Что весьма часто ставило его в положение унизительное и, признаться, для личности, в особенности мужской, разрушительное. Любил же он все то, что окружало его там, на родине, в юности, то есть прошлое, историю. И даже не просто любил, а как-то боготворил и ежедневно тем или иным способом кадил фимиам перед своим давно разбитым идолом, собирал осколки и детали, складывал из этих черепков какие-то жертвенные орнаменты, в которых легенды, песни и стихи, портреты героев, черный мокрый хлеб, кислые огурцы и капуста с клюквой, а также особая интонация при произнесении некоторых слов или особый посол такой-то, а не иной рыбы занимали равно важное место. Состряпанным таким образом блюдом пан Януш и прикармливал сына, особенно по вечерам. Засыпая, маленький Павел плавал в крепком настое из польской древней славы и польской же шелестящей как листопад речи, из польских стихов и казавшихся ему сказочными деталей повседневной жизни времен детства, отрочества и ранней юности его отца. Значение многих слов и выражений приобретали для ребенка особую таинственную притягательность. Не осмеливаясь перебивать и расспрашивать витийствовавшего отца, он подменял знание воображением и утопал в царстве химер, впрочем по большей части весьма симпатичных. Ибо имея полную свободу представлять себе то или иное слово в виде той или иной вещи, или же того или иного существа, он выбирал предметы невредные и персонажей беззлобных, не угрожавших его только еще начинавшейся жизни.