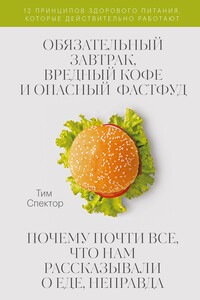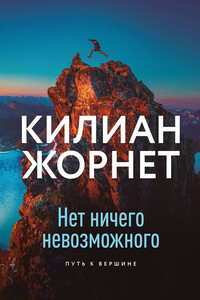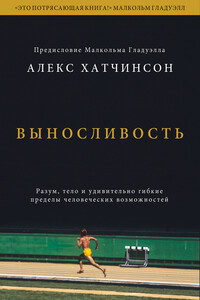Загадка нестареющей медузы. Секреты природы и достижения науки, которые помогут приблизиться к вечной жизни | страница 28
И всё же мы живем в мире, где стареть нормально. Британский биолог Питер Медавар первым объяснил нам, почему это так: даже если бы большинство животных и могли жить вечно, ничего бы хорошего из этого не вышло. Рано или поздно хищники, инфекции или несчастные случаи добрались бы до каждого из нас. Так чем же хорошо бессмертие с точки зрения эволюции?
Представьте себе, например, группу полевых мышей. Как обычно, движущая сила эволюции — случайно возникшие мутации. Если мышь родилась с мутацией, из-за которой у нее хуже получается добывать пропитание, у нее рождается мало мышат. То же самое касается и мышат, которые наследуют эту мутацию. Очень быстро эта мутация исчезнет.
А что, если мышь рождается с такой мутацией, которая наносит удар только через два года? Если на поле достаточно хищников, большая часть мышей не доживет до двухлетнего возраста. И никогда не узнает о том, что у них была вредоносная мутация. Так что мышь с поздней вредной мутацией может родить столько же (или почти столько же) мышат, как и обычная мышь. Это значит, что мутация может довольно долго передаваться через поколения и наносить удар тем мышам, которым повезет дожить до двух лет и постареть.
Эта теория по-научному называется теорией накопления мутаций. И хотя звучит она довольно стройно, множество полевых исследований показывают, что она оправдывается далеко не всегда. Старение оказывает негативный эффект на уровень репродукции животных. Хотя животные часто умирают, не дожив до старости, они могли бы в среднем получить больше потомства, если бы не старели. Насколько велик этот эффект, зависит от вида животного. Но даже небольшой негативный эффект уничтожит эту мутацию через миллионы лет.
Вернемся к планшету. А что, если определенная мутация вредна в пожилом возрасте, но полезна для молодого организма?
Представьте себе, например, что определенная мутация позволяет нашим мышам рожать больше мышат в каждом помете в раннем возрасте, но по достижении мышами двух лет убивает их. Если средняя мышь в любом случае умрет довольно рано, «выиграет» та, у которой будет больше мышат в помете.
Другими словами, хорошо бы иметь такую мутацию, которая помогает в короткий промежуток времени, даже если она вредит в долгосрочной перспективе. Особенно если вероятность прожить долго и так невелика.
Этот феномен также получил мудреное название «антагонистическая плейотропия». Не пугайтесь: антагонистическая означает, что что-то чему-то противостоит, а плейотропия — это термин, обозначающий ген, влияющий на несколько фенотипических признаков. Так что антагонистическая плейотропия означает, что ген может оказывать противоположное влияние на различные признаки.