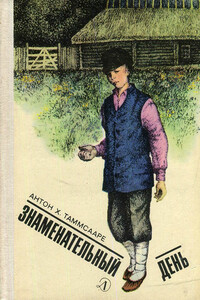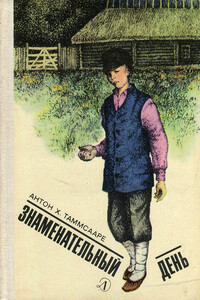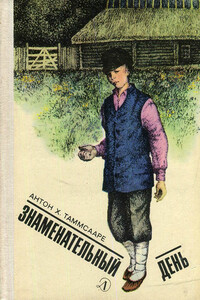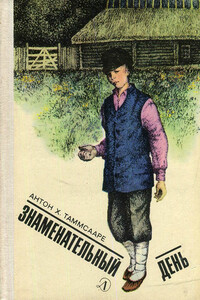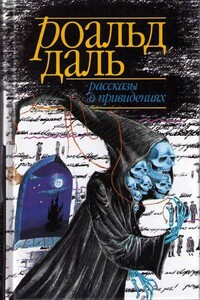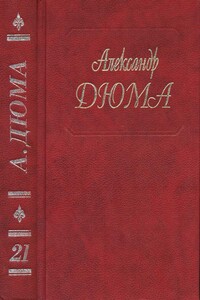Оттенки | страница 39
К тому же, случись эта комедия год или даже полгода назад, мы не были бы так крепко привязаны друг к другу, как сейчас. А сейчас мне кажется, что мы друг другу непременно, просто неизбежно необходимы, я нужен ей не меньше, чем она мне, потому что оба мы — чужие среди своих родных и знакомых.
Я передумал тысячу мыслей и не нашел никакого выхода, кроме одного: мы должны остаться вместе. Я попытался это объяснить жене, но она не стала меня слушать, я думаю, не оттого, что привязана к ребенку так сильно, как я, а потому что ей просто завидно: почему девочка в последнее время меня полюбила больше, чем ее. Жена ведь всегда считала себя и всю свою родню более достойными, чем я и мои близкие.
Я угадываю в ней какое-то упрямое стремление вытравить в ребенке все, что от меня, и взамен насадить собственные светские добродетели.
Бедное дитя, как она за время моей болезни ее вымуштровала! Она сделала из нее запуганного зверька, куклу на пружинах. Посмотришь — сердце сжимается.
Нет ни малейшего сомнения — эта муштровка продолжается с того дня, как она с ребенком ушла от меня. Добрые люди устроили мне встречу с девочкой тайком от жены, и первое, что она мне сказала, было:
— Папа, когда ты к нам придешь?
— Не знаю, у меня нет времени, — ответил я.
— Возьми меня к себе, — попросила она.
— Мама не разрешает, — сказал я.
— Мама злая, — продолжала девочка. — Я тайком убегу к тебе, дома лучше.
— Не убегай, — стал я уговаривать ее. — Подожди, мама разрешит тебе прийти, подожди только.
— А если не разрешит, я приду тайком? — спросила девочка.
— Разрешит, вот увидишь, — уверял я, и это было единственное, чем я мог ее утешить, не то она и впрямь сделала бы какую-нибудь глупость.
Но слова, утешившие ребенка, не могли утешить меня самого. В ее глазах, синих-синих, я читал какой-то безотчетный страх и чувствовал, как мало значат по сравнению с этими глазами сладострастные взоры зрелой женщины, их не могут затмить ни пышность округлых форм, ни плавность линий. Я чувствовал, что в этих испуганных глазах сижу я сам и смотрю на окружающий мир».
Так заканчивались беспорядочно набросанные Раннуком строки. У меня осталось такое впечатление, будто он не успел рассказать всего, что задумал рассказать. Возможно также, что незаконченность эта была не от недостатка времени, а умышленная, что Раннук тоже начал ценить светские добродетели, выявляющиеся в словах, и изложил только то, что ему было выгодно. Как выяснилось впоследствии, дело, по-видимому, обстояло именно так, если не учитывать, что, когда он писал свою исповедь, весь его план еще не был готов и что он созрел лишь позже, под давлением неотвратимых событий.