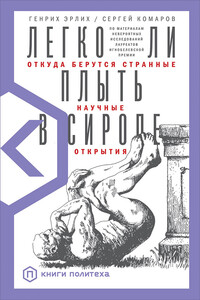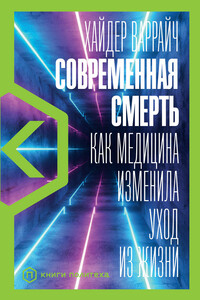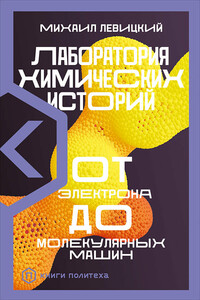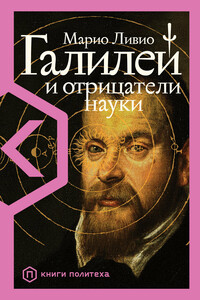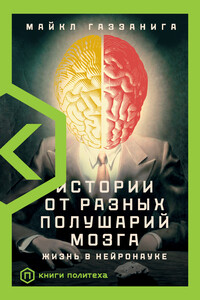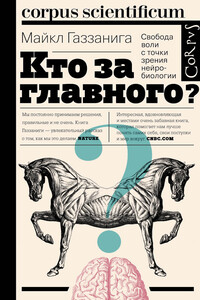Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика | страница 30
Весьма смелый тезис, последствия которого непредсказуемы, – и Юм это понимал. Он ставит под сомнение идею причинности, приравнивая ее к аксиоме, – то есть высказыванию, которое не стоит даже пытаться обосновать. На самом деле он не сомневается в том, что у причин есть следствия – он задается вопросом, откуда берется наша уверенность в этом. В 1754 году он писал Джону Стюарту, профессору натурфилософии из Эдинбурга: «Позвольте сказать Вам, что я никогда не утверждал столь нелепого положения, а именно что какая-либо вещь может возникнуть без причины; я утверждал лишь, что наша уверенность в ошибочности такого положения исходит не от интуиции и не от демонстрации, а из другого источника»>[8].
Юм показал, что аксиому о причине и следствии невозможно доказать в рамках математики, логики и здравого смысла. Юм восхищался Ньютоном, но в данном случае усомнился в философском базисе ньютоновского учения, а вместе с ним и в механистической определенности всего мира и мозга с разумом. Далее мы увидим, что сомнения в механистической определенности могут завести нас в любопытную область.
О самоощущении, то есть о личной идентичности, Юму тоже было что сказать. В результате самонаблюдения он пришел к выводу, что «я сам» состоит из целого набора восприятий, а вот субъекта, в котором эти восприятия проявлялись бы, не существует: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим я, я всегда наталкиваюсь на то или иное единичное восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или наслаждения. Я никак не могу уловить свое я как нечто существующее помимо восприятий и никак не могу подметить ничего, кроме какого-либо восприятия»>[9]. Однако он признает, что должен как-то объяснить свою идею о личной идентичности. Он приписывает это ассоциированным восприятиям. «Я сам» для Юма – это не что иное как комплекс восприятий, объединенных связями причинности и сходства, которые возникают из непрерывной цепочки наших восприятий. Наши мысли и фантазии в совокупности создают почву для идеи идентичности. Память связывает их с такими же образами из прошлого и выводит эту идею за границы сиюминутных восприятий.
Иными словами, Юм считает, что наш способ мышления порождает идею о постоянной самоидентичности, из-за чего возникает путаница между последовательностью связанных объектов (в данном случае – наших восприятий) и цельным, неизменяемым объектом с постоянной идентичностью, например, со стулом. Юм настаивает на том, что, оправдывая «эту нелепость, мы часто придумываем какой-нибудь новый и непредставимый принцип, соединяющий объекты и препятствующий их перерыву или изменению. Так… для того, чтобы скрыть изменения, [мы] прибегаем к идее