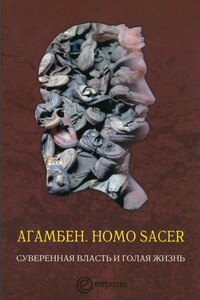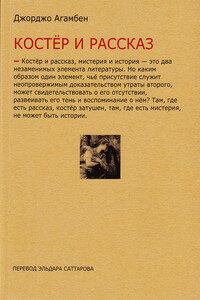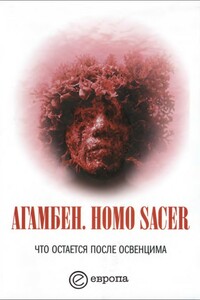Нагота | страница 60
Подтверждением, но вместе с тем и слабым звеном этого выразительного первенства лица служит тот факт, что мы невольно краснеем от стыда перед собственной наготой. Возможно, по этой причине настойчивое присутствие наготы ставит под сомнение прежде всего главенствующую роль лица. О том, что нагота красивого тела может затмить и сделать невидимым лицо, ясно говорится в Хармиде, диалоге Платона, посвящённом красоте. У Хармида, молодого человека, имя которого дало заглавие диалогу, красивое лицо, но, как говорит один из собеседников, тело его настолько прекрасно, что «захоти он снять с себя одежды, ты и не заметил бы его лица» (Хармид, 154 D)[116], то есть что он был бы буквально «без лица» (aprosōpos). Мысль о том, что нагое тело может оспаривать первенство лица, непосредственно заменив лицо, прослеживается в ответах женщин в ходе судебных процессов над ведьмами: когда их спрашивали, почему во время шабаша они целовали анус сатаны, те в своё оправдание утверждали, что там тоже есть лицо. Нечто похожее наблюдается и на первых эротических фотографиях: лица моделей должны были выражать романтичность и мечтательность так, будто объектив подглядывал за ними в уединённом boudoir[117], но со временем этот подход меняется на противоположный и единственной задачей лица становится демонстрация бесстыдной осведомлённости в выставлении голого тела напоказ. Бесстыдство, безобразие (потеря лица, образа)[118] является на сегодняшний день постоянным союзником неприкрытой наготы. Лицо, ставшее соучастником наготы, глядящее в объектив или подмигивающее зрителю, выражает отсутствие тайны и предъявляет только демонстрацию самого себя, показ в чистом виде.
22. На миниатюре в манускрипте Clavis physicae[119] Гонория Августодунского изображён персонаж (возможно, это сам автор), держащий в руке свиток, который гласит: «Involucrum rerum petit is sibi fieri clarum», «он пытается прояснить оболочку вещей». Можно было бы определить наготу как оболочку, находящуюся в том состоянии, когда прояснить её – по всей очевидности – невозможно. Именно в этом ключе следует рассматривать высказывание Гёте о том, что «красота никогда не уяснит себе своей сути»[120]. Только до конца оставаясь «оболочкой», только буквально будучи «нераскрытой», видимость, достигающая апогея в наготе, может называться красивой. Однако то, что ни наготу, ни красоту нельзя прояснить, вовсе не означает, что в них кроется какая-то непостижимая тайна. Такая видимость была бы загадочной, но именно поэтому она и не была бы оболочкой, ведь тогда пришлось бы вечно искать сокрытую в ней тайну. В нераскрытой оболочке, напротив, нет никакой тайны, и, обнажившись, она являет собой чистую видимость. Красивое лицо, с улыбкой демонстрирующее свою наготу, говорит лишь: «Хочешь увидеть мою тайну? Хочешь прояснить мою оболочку? Что ж, смотри тогда, если сможешь, смотри на это полное, непростительное отсутствие тайны!». Матема наготы в данном случае – это просто