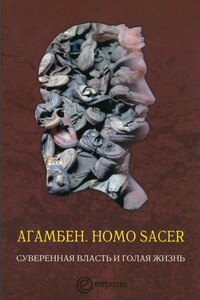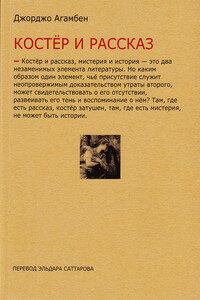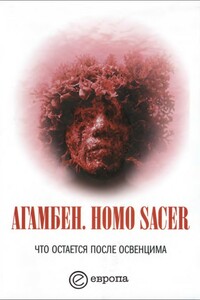Нагота | страница 58
В человеческом теле – и, в частности, в персонаже Оттилии, которая представляет собой парадигму этой чистой видимости – красота может быть только видимой. Потому, в то время как для произведений искусства и природы действует принцип сохранения покрова, для живого тела неизбежно устанавливается противоположный принцип, согласно которому «всё смертное обнажаемо». Тем самым не только возможность обнажения обрекает человеческую красоту на видимость, но также и снятие покрова, эта способность к разоблачению, формирует во многом её признаки: красота человеческого тела по сути своей бесконечно «разоблачаема» и может предстать взору как чистая видимость. Правда, существует и граница. И за её пределами нет ни сущности, которую нельзя обнажить ещё больше, ни natura lapsa[115]. Есть лишь само облачение, та же видимость, и за ней не стоит больше ничего. Этот неизбывный остаток видимости, в котором ничего не видится, эта одежда, которую никакое тело не может больше надеть, и есть человеческая нагота. Она – то, что остаётся, когда с красоты сброшен покров. И возвышенной её можно назвать именно потому, что, как говорил Кант, невозможность представить идею при помощи чувств превращается в определённый момент в высшее представление, где представляемое является, так сказать, самим представлением. Таким же образом в наготе без облачения видится сама видимость, соответственно, являясь бесконечно невидимой, бесконечно лишённой тайны. То есть видимость возвышенна за счёт того, что демонстрирует свою пустоту, воплощая в этом собственно невидимость.
Поэтому в конце эссе именно видимость оказывается ответственной за «высшее ожидание», а принцип, подтверждающий абсурдность стремления к видимости добра, «обнаруживает единственное исключение». Если красота в самом глубинном своём проявлении была тайной – то есть непременной взаимосвязью между видимостью и сутью, облачением и облачённым – то здесь видимость освобождается от этих оков и недолго сияет отдельно, как «видимость добра». По этой причине исходящий от неё свет бледен и найти его можно лишь в гностических текстах: там он уже не та безусловная и неотделимая оболочка красоты, а видимость – такая, через которую ничто не видится. И элемент, вечно отражающий сию невидимость, сие возвышенное отсутствие тайны человеческой наготы, – это лицо.
Вальтер Беньямин с Герт Виссинг и Марией Шпейер. Фото, 1931
20. В конце двадцатых – начале тридцатых годов Беньямин тесно общался с несколькими очень привлекательными подругами, в числе коих были Герт Виссинг, Ольга Парем и Ева Херман. Он считал, что их всех связывает одно и то же особенное отношение к видимости, к внешности. В дневниковых записях, сделанных на Лазурном берегу с мая по июнь 1931 года, он пытается определить это отношение, связывая его с темой видимости, к которой он уже обращался несколькими годами ранее в эссе о романе Гёте. «Жена Шпейера, – пишет он, – пересказала мне эти удивительные слова Евы Херман, произнесённые в момент глубочайшей депрессии: “Я и так несчастлива, но это ещё не значит, что я должна расхаживать повсюду со сморщенным лицом”. Это высказывание заставило меня понять многое, и прежде всего то, что моё недавнее поверхностное общение с этими созданиями – Герт, Евой Херман и т. д. – лишь слабый и поздний отголосок одной из основополагающих составляющих моей жизни: опыта видимости [