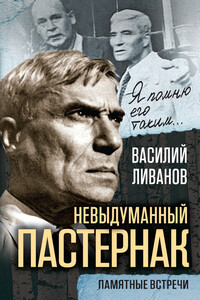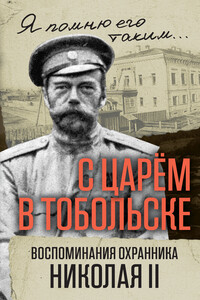Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино | страница 51
Если говорить о монашестве Рублева – Солоницына, то монах он, конечно, странный: ни разу мы не видим его молящимся, ни разу он не перекрестился (вообще в фильме о монахах и о средневековой Руси крестится только мужик-язычник!), ни разу не вспомнил о своем духовном учителе – великом Сергии Радонежском. Вместе с тем, по моему мнению, Андрей Рублев в фильме – человек глубоко религиозный, ибо совестлив и превыше всего ставит любовь к истине и к человеку.
Такими же глубоко религиозными людьми были и погибший на костре протопоп Аввакум, и отлученный от церкви Лев Толстой, последними словами которого перед смертью были: «Истину я люблю много…»
Был ли на самом деле монах-иконописец Андрей Рублев таким вольнодумцем, каким мы видим его в картине? В письменных упоминаниях о Рублеве его называют одним из наиболее почитаемых старцев. А ныне церковь официально причисляет его к лику святых. Но святым может быть и раскаявшийся великий грешник, искупивший свой грех страданием и праведной жизнью.
Тарковский исходил в раскрытии мироощущения Рублева не из того, что писали о нем в житиях, а из духа творений великого художника, проникнутых преклонением перед красотой человека.
Любовь к людям, вера в родной народ, в его изначальную чистоту заводят в фильме монаха Андрея далеко. Когда в начале эпизода «Праздник» Рублева привлекают странные звуки, он не может противиться искушению и идет на их зов. Мелькание огней, призрачный свет, и среди деревьев бегут с факелами в руках женские и мужские обнаженные фигуры. Смиренный чернец-иконописец в замешательстве. Его неудержимо влечет к себе живая плоть жизни. Он человек и художник.
С Бориской (Николаем Бурляевым)
Тарковский вместе со своими товарищами не воссоздает здесь какой-либо определенный праздник, но соединяет действительно существовавшие языческие обряды, берущие свое начало не только в бытии и сознании людей дохристианской Руси, но славянства вообще и даже античности. Когда человек не противопоставлял себя природе, а был полностью в ней растворен, он считал себя ее частью и поэтому видел в ней человеческие свойства. Плодородие человеческое и плодородие земли для естественного человека были явлениями одного порядка. Поэтому, скажем, роса и дождевые капли виделись ему истекающими из грудей небесной матери (стилизации пары женских грудей находили в резных украшениях деревенских домов в России вплоть до начала нынешнего века), а осеменение земли отождествлялось у древних с оплодотворением женщины.