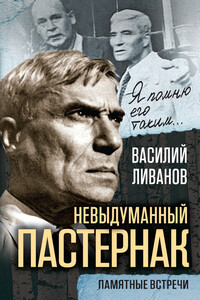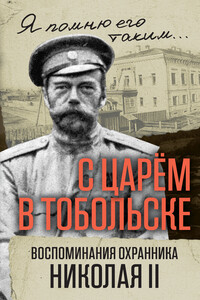Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино | страница 42
Но с последним криком «А-а-а-а!», вместе с взлетающим мешком характер кинематографических действий меняется: сверхобщий длинный план сверху на толпу, стоящую внизу, на реку, на людей в лодках…
Начинается парение камеры. Тут уже нет разорванности действий, наоборот – плавная их сменяемость: мы летим вместе с мужиком, мы ощущаем тревожное счастье свободного полета, обгоняем бегущее внизу стадо, летим над рекой, над древним городом, над озерами[3]. Слышим смех, хмыканье мужика, его полный испуга и восторга крик: «Летю! Архип! Летю-у-у-у! Эй, э-э-ге-ге!!!»
А затем стремительно-ускоренное движение вниз, к воде. Врезается в наше подсознание буквально секундный крупный план лица испуганного мужика. Слышится его стон: «Архипушка-а-а-а!» Вода все ближе, потом земля – и стоп-кадр: движение оборвалось.
Все. Это гибель. Но эпизод на этом не заканчивается. За стоп-кадром следует изображение совсем неожиданное: на общем плане лошадь, лежащая на берегу реки, снятая рапидом, медленно переворачивается через спину и снова ложится. И сразу же за этим наезд на мешок – из него выходит воздух. Нам не показывают мертвого мужика, его смерть изображена отраженно: медленно оседающий кожаный мешок похож на умирающее животное.
Но что же лошадь? Почему показана перекатывающаяся через спину лошадь?
Пролог построен на противопоставлении – судорожная, озлобленная возня людей и отрыв от грешной земли в свободный полет. Родится человек, суетится, и все-таки в нем – даже в самом темном – заложено стремление к высшему, может быть, он к нему и взлетает, но взлет за пределы общепринятого гибелен. Режиссер, однако, не соглашается с однозначностью вывода: да, смерть, да, она безобразна, но ведь полет был, и он ею не перечеркнут, и прекрасная жизнь существует – конь вольно катается в траве у реки.
Пролог фильма заставляет ожидать совсем другое, нежели пролог сценария. Там было изображение действительного события, здесь – поэтическая притча. В ней заявлен главный принцип соотнесения картины с действительностью: очень жесткое, реальное до натурализма изображение земного существования и поэтическое парение духа.
О Куликовской битве в фильме теперь не упоминается ни разу. Тарковский сознательно изгоняет те сведения об исторических событиях, которые дали основания Пашуто отнести сценарий к виду художественной историографии. В картине уже нет рассказа Даниила Чёрного об осаде татарами Москвы и всей ретроспективной линии русских женщин, отдавших татарам свои волосы за снятие осады со столицы.