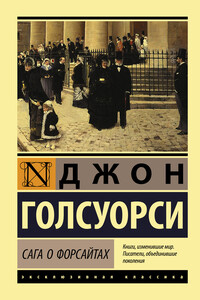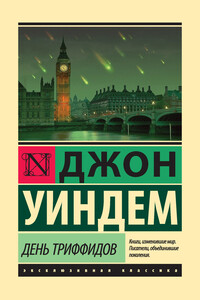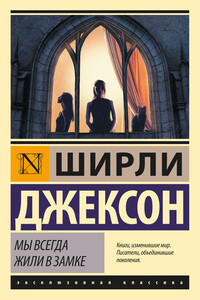Страстная мечта, или Сочиненные чувства | страница 26
Основной тезис Дидро в «Парадоксе» был связан со следующей проблемой: если актер испытывал настоящие переживания во время первого спектакля, к третьему спектаклю он будет выжат как губка, и холоден словно лед. И это не теоретическое предположение, а в точности та проблема, с которой все актеры сталкиваются с незапамятных времен. Дидро подкрепил свою точку зрения следующим замечанием: «…неравномерна игра актеров, проживающих свою роль на сцене… Их игра то сильна, то слаба, то пламенна, то холодна, то скучна, то превосходна; все, что им удалось гениально показать сегодня, они могут потерять завтра». Дидро указывал, что сама Дюмениль часто исполняла свою роль в спектакле как будто в забытьи, не понимая, что говорит или делает, и все же в какой-то момент могла сыграть вдохновенно.
Дидро справедливо задавал вопрос, может ли актер произвольно смеяться или плакать. Если ответ – «нет», то исполнитель должен искать другой подход, какие-то внешние средства, чтобы добиться результата. И только в случае утвердительного ответа на вопрос Дидро можно законно ставить под сомнение сам парадокс. Эмоции, однако, должны возникать не только под влиянием момента, они должны проявляться в ходе процесса, который актер контролирует. Дидро заключал, что этот процесс может зависеть только от внешних средств. Дидро, однако, был вынужден прийти к такому выводу, поскольку настоящий метод достижения актерского мастерства в его время был никому не известен.
Дидро шел еще дальше, полагая, что переживание истинных эмоций на сцене невозможно. Он указывал на те случаи, когда актеры, испытывающие, казалось, по-настоящему сильные чувства на сцене вдруг переключали свое внимание на второстепенные объекты, которые не являлись частью действия пьесы. Дидро задавал вопрос: как это возможно, если актер глубоко вовлечен в происходящее?
Ответ был получен столетие спустя: Уильям Арчер сделал вывод, что эти признаки нарушения концентрации доказывали обратное. Обычно считается, что человек, эмоционально целиком и полностью погруженный во что-то, не замечает ничего вокруг. Напротив, чем сильнее переживание, тем вероятнее, что он «с механической щепетильностью обратит внимание на пустяки повседневной жизни». Напряженность эмоционального состояния не исключает реакцию сознания на то, что происходит вокруг. Во время тяжелого кризиса человеческое внимание могут отвлечь мельчайшие детали, которые не имеют никакого отношения к самому кризису.