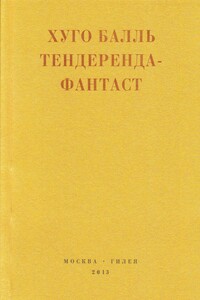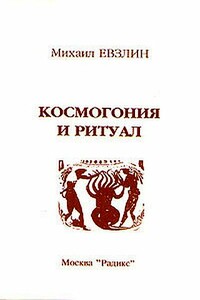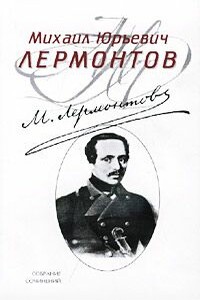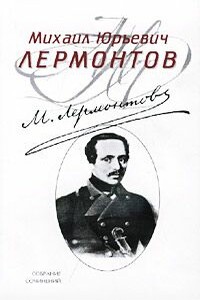Обэриутские сочинения. Том 2 | страница 44
При хозяине произошло, ох, много, а при мне – ещё больше. Только, прошу, не сомневайтесь: вам говорят самую-самую глубокую правду. Когда я впервые, совсем один, стоял за прилавком, я бы без колебаний подошёл к яме и заглянул в её глубину, туда, где по временам отражаются разные малости, но чаще – укрупнённые множества. Разумеется, в их обратном, исконном, значении. Интересно, как же рассуждают другие, которые наклоняются, всматриваются, а перед глазами – ни-че-го, совершеннейшая пустота. Скорее всего, уверяют, что между прилавком и той фарлушкой – вовсе не дыра, а что-то незначительное, по-просту сказать – мизерное. Вполне возможно, подобная нецелесообразность и сегодня кажется удивительной. Более того, фантастической. Почему это так? Почему только передо мной открывается заросший палисадник с ветлами, клёнами и добрыми, отзывчивыми дятлами. Ну почему, как вы полагаете? Вскоре мне стало ясно, что прав никто другой, только я.
В тот интересный день я отчётливо увидел нескольких, все они были построены как бы по росту, после чего вежливо обходили вокруг каждого дерева, каждой тростинки. Первым выступал самый приметный, в самой шёлковой шапочке, обвешанной кисточками, с красным языком-треугольником под кармашком обветшалого пиджака. Этот шагал, подгибая колени, с игральными кубиками за щеками, то и дело вздрагивая отсутствующими бровями, приставляя кулаки то к ушам, то к нахмуренным глазницам. Иной раз он старательно прочищал горло трубным пением одной-единственной ноты, примерно так: ЭЭЭЭЭЭ или ОООООО. Согласно размеру, за первым следовал тот, который вскидывал своё негладкое лицо, изображая гордость. Как знакомо поводит он ноздрями! Всё-таки я вспомнил и этого: даже ту неповадную историю с награждениями, когда он по своему разумению назвался чинарём и, чтобы имелось перед кем величаться, наградил таким же чином знакомую дворничиху, потом товарища милиционера, и ещё кое-кого. Получившие звание должны были уткнуть носы в разные углы, и гнусавить «чины». Но так, понимаете ли, не было, каждый занимался привычным делом. Только некоторые разбрелись кто куда, вроде того молвока. Его видели не то в Праге, не то в одном из трёх концов Крещатика. За двумя вперёд идущими выступал накрепко сколоченный, всё ещё розовощёкий, о чём нетрудно было судить по его мясистому уху. Через пенсне степенного учителя он разглядывал разных мошек на стволе старой черешни. Кому-то когда-то пришло в голову прозвать его Дугановым. Вот как оно случается! За ним шёл прозванный Лодейниковым, в дохлых тапочках, с улыбкой Афродиты на изящном носу. Потом ступал самый приветливый и картавый, с женским чулком вокруг шеи, с именем древнейшего Левита в суковатой руке. Два узкогрудых, которые появились, раздвигая акации, шли по-другому. Один стелился впалыми ключицами, будто был древнеримским эльфом, другой – словно надувал паруса мотобота, словно взлетал потухающим Моцартом. За ним бежал совсем уже махонький, но коренастый, в камзоле и кружевах, весь хвойный, пропитанный цветочной пылью. Когда он оборачивался, то обнаруживал немалый горб и длинные власы посадника Евграфа. Почему мне трудно сюда смотреть? Надо бы забить эту скважину! Неужели не найти куска фанеры? Завалю-ка дыру старым креслом. Слава Богу, втиснулось! Теперь из-под ржавых пружин слышались невыносимые слабеющие голоса: «А мы просо сеяли, сеяли, сеяли…» Покричат, покричат, да и смолкнут.