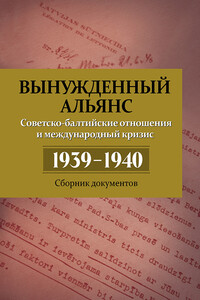Прибалтийский излом (1918–1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности | страница 51
. И при этом они никогда не поднимали мятежей. В этой войне все иначе. Она продолжалась не так уж и долго (тогда – около трех с половиной лет), и все же русская армия уже была истощена. Это произошло потому, что именно теперь солдат, если только он был не в гарнизоне или не проходил службу в дальнем тылу, постоянно подвергался смертельной опасности. Даже его так называемые позиции для отдыха все же были в зоне досягаемости вражеского обстрела. Он не сражался, а в готовности к бою сидел в окопе. В любой момент мог атаковать противник, в любой момент он мог накрыть окопы огнем. И солдат должен был постоянно силой глушить в себе инстинкт самосохранения. В обстановке этого беспрерывного давления и формировался постепенно новый тип человека, с которым уже нельзя было справиться с помощью имеющейся схемы военной муштры. Он попросту был неуязвим для клещей. Дисциплина не была сломлена, она разлагалась постепенно. Первые признаки этого я видел зимой и весной 1916 г. Каждый день я проводил в окопах на передовой по четыре-пять часов. С раннего утра я был уже там, следил за раздачей пищи, выслушивал рапорты и затем опять отправлялся в тыл. Вечером в сумерки я возвращался в окопы и оставался там на несколько часов. В то время (должно быть, это было в январе или в феврале 1916 г.) я заметил первые опасные признаки упадка дисциплины. Солдаты ворчали и жаловались то на одно, то на другое. Я смог удовлетворить все их пожелания: еда, сапоги, солома, смена на позициях – все это мне удалось достать и добиться того, чего они хотели. Но они все равно ворчали. То были лишь первые признаки. Они повторялись и становились все хуже. Мы часто делали вылазки, порой несли потери или брали пленных. Через несколько недель им наскучило и это, опять стали говорить: «Пусть нас по домам распустят!» Насчет этих явлений, обнаруживаемых повсюду, шли длительные совещания. Мы стали чаще менять место дислокации, иногда после этого на какое-то время становилось получше. Однако лишь ненадолго, затем вновь объявлялась старая хандра, они опять хотели домой. С весны люди стали отказываться ходить в патрули или отправляться на вылазку. Это скрывали. Однако если в разговорах говорили об этом, то тут же многие признавали, что у них то же самое. То тут, то там при раздаче приказов говорили: если возможно, лучше на передовую не посылать, ведь неизвестно, что сделают эти люди, когда им отдашь команду. Никакой политики во всех этих явлениях не было и следа. В русской армии никакой пацифистской пропаганды не было. Все это шло от самих солдат. А сами события? Да сложно сказать, в чем же они заключались. Мы просто услышали о перевороте, а новое правительство прислало извещения и приказы. Мы переговорили с нашими подчиненными, к нам прибыли и политические комиссары, которые произносили перед солдатами речи. А затем как-то утром заявили, что надо выбрать солдатские советы. Был ли это приказ сверху, или это исходило от солдат, теперь уже нельзя сказать. Однако солдатские советы были выбраны, а после этого армия перестала быть армией».
Книги, похожие на Прибалтийский излом (1918–1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности