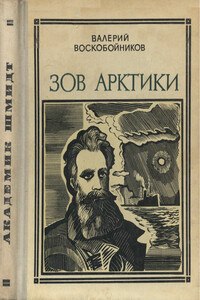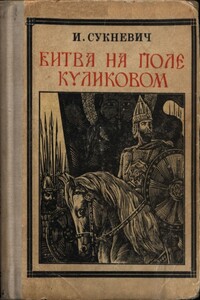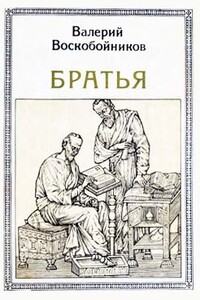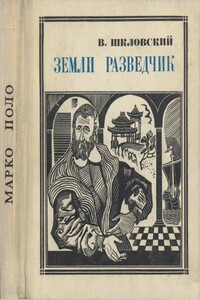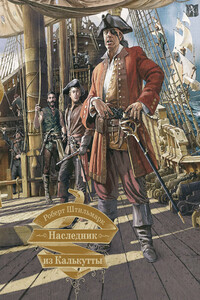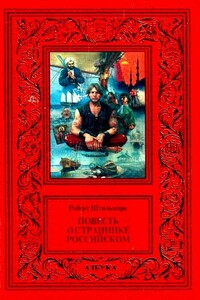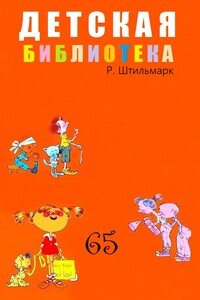За Москвой-рекой | страница 45
А когда домашняя трагедия завершилась гибелью Катерины, побегом Варвары с Кудряшом и бессильным бун том Тихона: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы!» — Кабаниха, готова!: проклясть и память о вышедшей из повиновения, мертвой невестке, и даже собственного сына за попытку ослушаться («Мало она нам страму-то наделала, еще что затеяла!.. Прокляну, коли пойдешь!.. О ней и плакать-то грех!») — этими жестокими угрозами и поношением признается в крушении своей власти, в бессилии отстоять свое разрушенное «бла-алепие». Дочь убежала! Утопленнице-невестке выроют могилу где-нибудь на краю кладбища как самоубийце! Сын намерен пропить и «последний, какой есть» умишко. «Пусть маменька тогда со мною, как с дураком, и нянчится…» Что же остается Кабановой? Только путь в монастырь, в одинокую келью. Это финиш жизни, шахматный мат в собственной ее судьбе. И это явный приговор драматурга Островского всему темному царству кабаних и диких. Вместе с тем это и утверждение светлого, страдальческого образа Катерины, победы «луча света» над кромешной тьмой насилия и бесчеловечности.
И приходится тут признать: у революционного критика Добролюбова и царского цензора Нордстрема совпали взгляды на «Грозу» как пьесу с «завуалированным призывом к возмущению». Только выразили они свои взгляды по-разному! Приговор «самодурству» был вынесен! И в этом бессмертная заслуга и Островского, и всех, кто вынес на плечах своих все трудности подготовки этого революционизирующего спектакля!
3
Первые сценические воплощения «Грозы» под руководством самого автора как в московском Малом, так и в петербургском Александрийском театрах в отношении техническом получились далеко не парадными спектаклями. Ведь дирекция скорее противилась постановке, чем содействовала ей. Александр Николаевич огорчался тем, что декорации в Малом пришлось использовать от старых постановок, костюмы придумывали сами артисты, да еще подчас из собственного гардероба, сцена плохо освещалась керосиновыми фонарями. От них делалось жарко у кулис, припахивало керосиновой гарью, которая смешивалась с запахом восковых и спермацетовых свечей в зале. Но все эти технические недостатки не повредили спектаклю. «Гроза» буквально прогремела в Москве, вызвала восторг демократического зрителя и резкий гнев реакционеров.
Ученый мир России довольно быстро подтвердил высокие достоинства пьесы: 25 сентября 1860 года правление Российской академии наук присудило пьесе «Гроза» Большую Уваровскую премию. Учредил эту премию основатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров для награждения самых выдающихся исторических и драматических произведений.