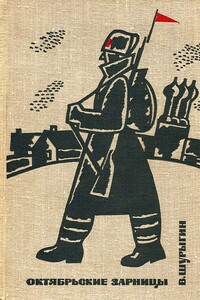Повести и рассказы | страница 29
Тимоха опять припечатал свою ладонь-лопату к женским телесам; запнулась бабка. Шофер виновато улыбнулся — мускулы правой щеки вздрагивали, мял кепку, переступал с ноги на ногу.
Мужик оторвал от газеты полоску бумаги, раскрыл круглую жестяную банку из-под леденцов, тремя пальцами уцепил махру — долго мусолил самокрутку. Трое парней на крыльце втихомолку о чем-то беседовали, лесник Хлустов развязал затасканный мешок с лямками и притворно-увлеченно искал в нем какую-то вещь.
— Я заплачу сколько надо, торговаться не буду, — уговаривал шофер Тимоху.
Тот прикурил, затянулся — глубоко, с наслаждением, густо откашлялся:
— За рупь не покупай — нет у тебя деньгов, чтобы душу купить. Однакось тяжеленько вдвоем-то нам будет сруб поднять, я мужиков с бригады кликну.
Один из парней, крупный мускулистый детина в расстегнутой до пояса застиранной ковбойке, пружинисто спрыгнул с крыльца и, заложив руки за спину, встал перед шофером:
— Мы не можем оставаться, да и ночь впереди. Послушай, почему ты нарушаешь порядок? Ведь раз положено, то ты не имеешь права самовольничать!
Лицо Топоркова потускнело; парень, сердясь, не видел, как шофер заливается белизной — трудно оправдываться, не находит подходящих слов, оттого неловко ему, оттого и мучается:
— Прости, сегодня... не могу. Я завтра часов в пять утречком, быстро подброшу... подождите.
— У тебя дело тут есть, а у них, что, своих дел нет? — парень указал на людей.
— Его дело поважней всех наших, мы-то подождем, а ему — не резон. Так-то, приятель ситный.
— Я вот Чарышихе скажу, она ему хвост накрутит! — тонко и пронзительно взвыла бабка Нюра. — Знать, как партейный, так и изгаляться позволено?
— Жалься, жалься, иди вон туда, в сельсовет, там тебя Чарышиха приголубит, — Тимоха втоптал окурок в песок, подтолкнул шофера. — Садись-ка да подъедь к Петьке и Саньке.
Лесник Хлустов крякнул, поднимая мешок, — видно, набит чем-то увесистым. Парни, порасспросив, отправились в магазин.
Бабка Нюра, подхватив бидоны, вперевалку поднялась по ступенькам крыльца в сельсовет.
— Ишь, ты, что хочу, то и ворочу, — бушевала бабка. — Я те посамовольничаю, вовек упомнишь!
В продолговатой комнате сумрачно, по бокам — ряды стульев, а в дальнем углу — два стола, один направлен торцом на дверь. Настольная лампа высвечивает лист бумаги и руку с карандашом, склоненное лицо — Чарышева писала, высунув и прикусив от усердия кончик языка, как старательная школьница. Бабка, осторожно поставив бидоны под вешалку, напористо устремилась к столу и еще с порога громко и требовательно говорила: