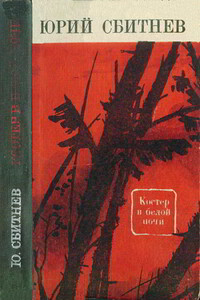Частная кара | страница 82
Император поморщился, но ничего не ответил. Левашов ретировался, решив, что при благоприятном случае сам арестует полячишку.
Генерал Сухозанет принес известие, что присягнула артиллерия, но в конных ее частях офицеры выразили недоверие присяге и требуют к себе Михаила.
Брат, застряв на полпути к Варшаве, все еще не вернулся, но Николай ждал его с минуты на минуту.
— Бунтуют? — спросил он Сухозанета.
— Нет, ваше величество, выражают недоверие и просят...
— Позор, — сказал Николай и отвернулся к окну.
На Дворцовой площади густо толпился народ.
— Я иду к ним, — неожиданно решил Николай Павлович и направился к дверям.
Крики «ура» оглушили его и несколько озадачили. К нему бросились какие-то почтенные люди, лобызая руки, одежду, а кто-то пал ниц и целовал головки сапог. В них он узнал Петербург, постоянно сопровождавший выезд двора. Все эти лавочники, купцы, лабазники и просто ряженые вопили в одно громадное горло: «Ура-а-а! Ура-а-а!». Краснели лицами и пожирали глазами. Он подумал, что следовало бы выкатить из подвала бочки, но тут же и оставил эту мысль. И какая-то краснощекая кликуша в нагольном тулупе неистово вопила: «Родимый! Родимый!» — протягивала к нему грудного ребенка в распахнувшихся пеленках, истово моля: — Родимый, коснися! Коснися!»
И он, преодолевая брезгливость — пеленки и на расстоянии издавали затхлый запах, коснулся ребенка пальцем.
И баба, с поглупевшим от счастья лицом, попятно поперла от него, орудуя мощным задом, запихнув дитя за пазуху, как котенка.
Кто-то, все-таки справившись с толпой, образовал вокруг него свободное пространство, и Николай Павлович, вынув из протянутых рук манифест, стал громко читать народу, отчетливо выделяя ударения и безукоризненно произнося русские слова. Втайне он гордился тем, что единственный из царской семьи говорил чисто и без намека на какой-либо акцент. С тех пор как услышал от Александра, что ему наследовать российский престол, стремился выучить говорить по-русски и жену. Но это плохо удавалось. Александра Федоровна оказалась скверной ученицей...
— Ваше величество, позвольте сесть на лошадь, — твердил кто-то рядом.
И это его раздражало, он более всего был привычен к команде: «На ко-о-онь!..»
— Ура! Ура! Ура! А-а-а-а-а!.. — кричала толпа, когда он кончил читать, и, снова сомкнувшись, вознесла его в седло, целуя не только сапоги и панталоны, но и коня.
— Бунт, — услышал долгожданное и устремился вперед, туда, где у памятника Петру открыто совершалось то, чего желал он, чтобы совершилось тайно. Но все равно это был бунт.