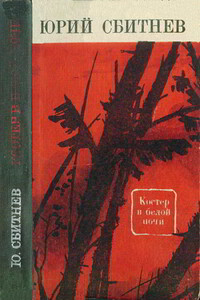Частная кара | страница 79
Он как бы упрекнул меня за то, что я до сих пор не создал ничего из того, к чему предрасположен. И это кольнуло сомнением:
—Смогу ли? Но очень хочу...
Я смотрел на плоды его мятущегося разума и всесильных, много умеющих рук, кончики пальцев которых, как у слепого, чутко осязали предметы, а он, то щурясь, то широко раскрывая и без того громадные живые яблоки глаз, глубоко сидящие в глазницах, втягивал щеки и словно бы то ли сдувал невидимую пыль, то ли ворожил, пытаясь, как гениальный Буонарроти, духом своим оживить сотворенное руками.
Тогда я вдруг до испуга понял одно: он — загадка, Ведун, вспоенный земляничным соком и росою наших тайных лесов. Он — очеловеченная душа дерева, мыслящая и говорящая ее плоть. Он толковал нам, людям, от имени всей древесной России.
Вспоминаю и все время хочу определить в том дне приведенного мною товарища. И не нахожу его. Вижу его позднее и после. Даже слышу простецкий хохоток и близкую к застенчивой улыбочку вижу, и нечто не произнесенное, не высказанное им, но очень значительное, что всегда держало его на поверхности, и необычайную занятость и активность. А в тот день не могу вспомнить.
А ведь с того дня необыкновенным образом укрепился он в доме скульптора и вплоть до смерти Ведуна живал там, зарабатывая себе пошлейшими интервью со старцем, приписывая ему такое, о чем тот и не подозревал никогда, вечно живя в Своем. А он это Свое, не понимая, высмеивал в рассказах среди знакомых, кичась близостью к столь знаменитому чудаку...
Коненков задумал, после своего восьмидесятилетия, совершить путешествие по России.
— Деньжищ взял мешок, — похохатывал приятель. — Из гостиницы уезжаем, а он идет и каждому из обслуги по червонцу на чай. А я следом иду и отбираю: «Что вы, не видите, старик из ума выжил». И — мелочишку им в руку, специально наменивал карман меди.
В окна мастерской проламывался солнечный свет, жег громадные занавеси, находя в них проем, и ткал необычайную озаренность того дня.
Он говорил о мироздании, о звездных, Великих часах, об облезьяне (так он произносил слово), которая готова все подчинить своему желудку и пасти, о войне и мире, о будущем Земли... И все это было только его, только им продуманное и выстроенное за долгую жизнь, как проект памятника свободы, которым он был тогда занят. Всем достойным людям было найдено место...
Не помню точно, во что был одет тогда Сергей Тимофеевич, но до сих пор вижу на нем грубую холщовую тогу, вытканную солнцем.