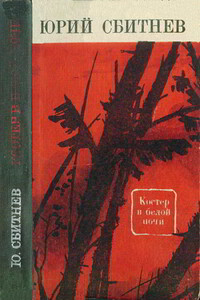Частная кара | страница 74
Но на службу не являлся вовсе.
— Вы едете на окрайный Север?
— Поедемте вместе, — предложил Кущин.
Пушкин задумался на минуту и вдруг, воссияв разом, как это умел только он, почему-то рассмеялся и сказал:
— Нет. Вреден Север для меня...
Кущин стал расписывать трудности и прелести путешествия, великий простор Енисея, девственный покой Катанги, детей природы, доныне диких — тунгусов, и Пушкин, опять чему-то воссияв и опять рассмеявшись, несколько раз повторил:
— Доныне диких...
Кущин отметил для себя одну черту в поэте: тот постоянно прислушивался к чему-то, в нем происходящему. Рассмеется от души, от сердца, как в колоколе, в хорошо развитой его груди прозвучит смех, и вдруг замрет, прислушается и скажет что-то.
— Послушайте, Кущин, напишите пиесу о чести, доблести и славе, — серьезно сказал как-то. — У вас получится! Вам дано...
Жить литературой, знать ее было тогда главным в обществе.
— Только литература великая и честная способна сделать человека человеком...
— Едемте к старухе Кирхтгоф, — предложил однажды. — Знаете, живет тут одна старая ведьма-немка. Судьбу предсказывает. Хочу знать свою... Мне очень надо.
Кущин согласился, и они поехали.
Кирхтгоф, сморщенная и желтая, в громадном чепце, в платье с бесчисленными оборками, копною сидела в кресле перед ломберным столиком, где в беспорядке лежали две колоды карт, смятые бумажки, табакерка, монокль и гусарская трубка. В комнате по-немецки аккуратно прибрано, но пахло кошками, жженой серой и богородской травкой.
Глаза у старухи были острые, сухие, не размытые годами, а нос, вопреки всему лицу, рыхлому и сырому, тонкий, с синим высохшим хрящом и чуть загнутый к толстым влажным губам.
Старуха, взглянув на пришедших, согласилась гадать и выбрала Пушкина.
— По руке буду, — сказала она басом на плохом французском с саксонским акцентом.
— Валяй по руке, — озорно сказал по-русски Пушкин, предполагая, что Кирхтгоф не поймет.
Но та скривилась, что должно было означать улыбку.
— Валай, валай, — повторила за ним и взяла руку поэта, указав на невысокий пуф в ногах.
Пушкин сел, она положила его руку себе на колено и хищно согнулась, вглядываясь в линии судьбы.
Кущин тоже смотрел на ладонь, крепкую, широкую в запястье, умевшую владеть шпагой и, не дрогнув, сжимать пистолет уже не на одном поединке. Пушкин никогда не прощал обид, требуя немедленного удовлетворения вызова, но не был злопамятен. И об этом знал Кущин.
Старуха складывала и раскладывала ладонь, поворачивала ее, наклоняя к свету и скрывая в тени.