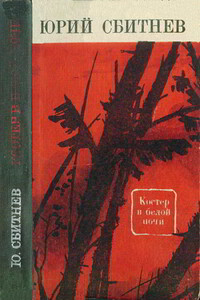Частная кара | страница 47
— Михал Ляксандрыч, а Михал Ляксандрыч, иди сюда, выпьем! — и казал бутыль самогона.
— Да что ты, Митрий, в такую жару да пить!
— Только счас и пить ее, Ляксандрыч, в самую пору, окаянную. Погоды пойдут, робить надо... Только счас ее и пить!..
А то начинал говорить об умирающих реках, о гибнущей рыбе... О пашенных клиньях, о тракторах и земле, о хлебе.
Тогда это казалось мелким, недостойным его гения, и никто еще даже не заикался о тех самых экологических проблемах, которые нынче стали главными в мире.
Он слышал тогда, упорно говорил о них. Даже с трибуны съезда, распекая министра Ишкова и вызывая на себя огонь литературных снобов:
— Нашел о чем говорить! Тоже проблематика!
Как часто история говорила языком гениев, предупреждая грядущее. И как безразличны были к этому слову современники. Вот и мы...
Дорогие свои, что же вы?!
А потом был хутор Кружилинский. Его родина. Школа, которую выстроил на Ленинскую премию. Его малая родина. Хата. Порог. Дорога.
Это был третий день встречи в Вешенской.
Перед этим мы все были в его доме. Сидели в обыкновенной казачьей зале, фотографировались на порожках удобного простого жилища.
И я, глупея от неповторимости и значения мгновения, говорил от лица моих товарищей. Было в том моем лепете что-то о писателях как о саперах, у которых нет права на ошибку. И было что-то патетическое: «Вы, Михаил Александрович, никогда не ошибались».
Он усмехнулся в усы, по обыкновению своему вмельк поглядел в лицо и просто сказал:
— Я-то! Я ошибался, и много...
Рядом с ним сидела его жена; он, любовно склонившись к ней, словно ища поддержки, повторил:
— Охо-хо! Сколько я ошибался...
Во все дни Шолохов был сдержан, внутренне собран.
В Кружилинском неожиданно изменился.
В застолье был по-казачьему весел. Сам вел стол Много и остроумно говорил. Шутейно, но с полной серьезностью посвящал некоторых из нас в казаки. Смеялся и желал добра. Один из наших организаторов в самый разгар шуток и веселья, когда Михаил Александрович предоставлял нам право произносить тосты, вдруг сказал, исполненный самой искренней непроизвольности:
— Михаил Александрович, может быть, хватит тостов?
Шолохов в мгновение ока изменился в лице. Тонкие губы его вытянулись в одну четкую линию, глаза сверкнули холодно, и, чеканя каждое слово, он произнес:
— Никто не имеет права перебивать старших. Никто! — И обратил мигом ставшее жестким лицо к тому человеку: — Вот они, — кивнул на стол, — они все сидят в седлах. Крепко сидят. А ты в кресле — и вылетишь оттуда, как только тебя трясанут. И не встревай, когда говорят писатели!