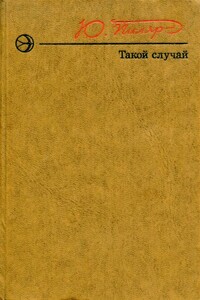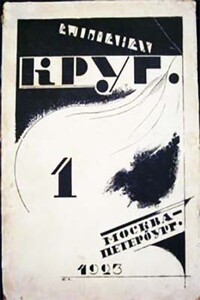Запонь | страница 20
Под начало к молодому тогда директору сплавной конторы привезли из Ленинграда несколько сотен изможденных блокадным голодом девушек. Нужно было сначала их накормить, отогреть и тогда уже приспособить к тяжелому мужскому труду. Удержать лес вместе с запонью, не дать ему уплыть в Ладогу, кажется, непосильное дело даже для мужиков... Удержали. Отправили лес в Ленинград. Это маленькое — в масштабе всенародного подвига — сражение, выигранное на трудовом фронте, осталось незамеченным, как сотни других примеров мужества, самоотвержения, организаторского таланта советских людей на долгом пути к Победе.
Мне рассказал о нем сам Павел Александрович Нечесанов. После войны он еще тридцать лет директорствовал на Паше; каждая дорога, каждый новый дом, каждый электрический столб, каждая человеческая судьба в округе причастны личности и трудам этого незаурядного, талантливого человека без образования, в юности бурлачившего на Мариинской системе, в высшей степени наделенного даром организатора, хозяина жизни, ясным государственным умом и теплом человечности. Бывало, как весна — я еду на Пашу к Нечесанову. Энергия, исходившая от этого человека, помогла мне написать наиболее дорогую мне вещь — повесть «Запонь».
Я начал писать ее давным-давно. В книге поставлена точка. Но, ставя точку, я знаю: однажды сяду на ладожский пароход, в лодку, ступлю на лесную тропу, встречу знакомого человека, и что-то проснется во мне — чувство сыновнего долга перед этим краем. Отсюда я родом, здесь родилась эта книга. И будет длиться она, покуда видят глаза, носят ноги, работает память, не затворилась душа.
Запонь
Глава первая
На исходе шестого десятка, в близком к пенсии возрасте, у Степана Гавриловича Даргиничева появился интерес к некрологам. Он вчитывался в строчки: «На пятьдесят шестом году жизни...», «На пятьдесят восьмом году жизни...». «И я вот тоже однажды сунусь мордой в землю, — думал Даргиничев, — и к богу в рай. Не умеют у нас дорожить человеком. Человек работает, как волк... А другой, бездельник, до ста лет проживет: сначала он в институте, потом инженеришком поболтается где-нибудь в конторе, глядишь — в начальники вышел. Чего же ему не жить? Это нам времени не хватило институты закончить. Это мы всю жизнь работали, как волки...»
Степан Гаврилович равнял себя к этим крупным умершим людям. Пусть они поднялись высоко в государстве, это были такие люди, как он, та же кость. Сердце болело у него, как у всех его одногодков. Он думал, что город обязан теперь чуть-чуть потеснить расплодившихся в нем бездельников и предоставить место ему, лесному волку, труженику. «И хозяйка моя пущай отдохнет...»