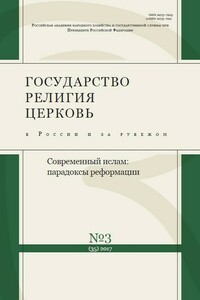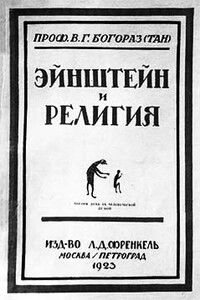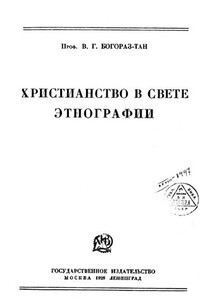Литургия смерти и современная культура | страница 56
Необходимость образования
Думаю, вы все согласитесь (и для этого не нужны никакие лекции), что первый шаг на этом практическом пути — образование. В нашей Церкви никогда не учили нашей смерти (да и вообще смерти), никогда не проповедовали о ней. Даже сегодня наша проповедь на погребении обычно принимает форму некоего панегирика. (Мы вдруг понимаем, что человек — слава Богу! — не может оспорить то, что он был прекрасным человеком! До его смерти мы даже не думали об этом! Мы считали его заурядной личностью, самым обычным неудачником, а теперь!.. Это — не проповедь о смерти, это увенчивающая ложь!)
Таким образом, мы можем сказать, что, хотя Литургия теоретически сама есть научение, икона нашего вероучения, она перестала быть таковой по различным причинам — из-за языка, из-за разных извращений и т. п. Этот процесс начался очень рано, когда некий хороший византийский поэт (потому что он просто не мог сдержать своего вдохновения) определил «ад» как место, где больше нечего делать, как только рыдать и стенать «Аллилуиа!». Литургия перестала быть откровением, ее надо объяснять через научение, через катехизис.
Я еще раз повторяю: смерть, весь комплекс смерти никогда не стоял (по крайней мере, в последние несколько столетий) в центре учения Церкви, образования, богословия. Смерть содержалась где-то в отдельном, специально для нее отведенном месте. Образование, конечно, обращено не только к детям, но и ко взрослым, оно включает в себя проповедь, а также и богословское образование. И перед нами встает огромная задача поставить в центр нашего богословия то, что стоит в центре Евангелия: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна» (1 Кор 15:14). Мир обратился в христианство не вследствие тонкостей паламистских споров, но этим невозможным, неслыханным утверждением, что «смерть была попрана смертью». Чьей смертью? Смертью Христа. Но как Он смог? Потому что Он — Сын Божий. А что это значит — «Сын Божий»? Потому что Он послушен Отцу... И мы возвращаемся к Святой Троице, возвращаемся к христологии, но уже (используя терминологию, к которой я редко прибегаю, но которая здесь очень уместна) из «экзистенциальной ситуации». Именно так, заново открыв для себя, что «случилось со смертью», мы можем по-настоящему открыть для себя даже таинства внутренней жизни Святой Троицы.
Я бы определил тему этого образования (к сожалению, я не имею возможности вдаваться в детали) как демонстрацию того, как смерть должна преодолеть, «трансцендировать» эти три области, в которые мы «сослали» ее, к которым мы ее свели, а именно «умирание», «погребение» и «поминовение». В программе богословского образования, например, смерть обычно присутствует в пастырском богословии, в обсуждении приготовления человека к умиранию. Как вы это делаете? А вы? Давайте сравним наши методы. Таким образом, в этом случае мы имеем дело с «рецептами». Но в чем конечный смысл этого приготовления? Обычно в нашей культуре он — в том, чтобы «облегчить», «утешить». Поэтому перед определением