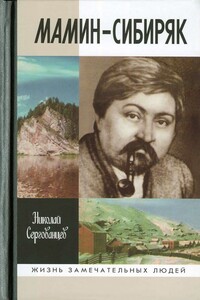Слово Лешему | страница 33
На пустых отрезках пути я прибавлял газу. В одном месте меня остановил польский гаишник с палочкой, стал сердито выговаривать за превышение скорости. Из машины вышла Катя, девочка-подросток, длинноногий журавлик, с тревогой за папу в детских невинных глазах. Польский гаишник посмотрел на меня, на Катю, улыбнулся, махнул палочкой: езжайте.
Въехали в Варшаву поздно вечером, была суббота, столица ПНР на спала; туда и сюда носились «самоходы», «таксувки» всех марок. В европейском городе надо знать свой ряд, чтобы повернуть в нужном месте куда следует. Для каждого ряда и свой светофор, по-польски свентло (или, ближе, свянтло). У нас меняют ряды, перестраиваются, срезают друг другу носы, в Варшаве так не проходит. Я все оказывался не в том ряду, проскакивал нужный поворот, куда-то мчался вместе со всеми, при первой возможности разворачивался, узнавал те места, по которым только что ехал. Ночной город Варшава носил меня в своем круговороте, как щепку в омуте. Накопленная в стремительном лете от Ленинграда до Варшавы спесь хорошего водилы улетучивалась, моя семья начинала роптать. Я прибивался к панели, спрашивал у таксистов, как проехать на улицу Гощинского или хотя бы на Пулавскую, там уже легче. Мне говорили: «Перший свентло, другий свентло, третий свентло, направо...» Я ехал, как мне говорили, но опять затесывался не в свой ряд, то справа, то слева маячила орясина Дворца культуры и науки — подарок Москвы Варшаве, указующий перст москалей...
По Варшаве водил меня мой Леший, как, случается, водит по лесу; надо полагать, Леший тоже поехал с нами в гости к очаровательным польским пани, чары как раз по его части. Когда ему надоело меня водить, или я выполнил заданный им урок, вдруг явилась улочка Гощинского, на ней домик с садиком; где-то в недрах домика мерцал огонек. Было два часа ночи. Я нажал кнопку в калитке железной ограды. Долго никто не выходил, наконец появилась призрачная высокая женская фигура в белом, не то пеньюаре, не то саване. Хозяйка домика встретила нас отчужденно, как будто и не узнала. Вообще, Божена Корчинская умеет принять ту или иную личину, вдруг напустить на себя столько шляхетского гонора, так поставить «москаля» на место, что и не подступишься к ней.
— Мы вас ждали, — сказала Божена. — Ты сказал, что приедешь днем, а приехал ночью. Здесь была вся интеллигенция Варшавы. Мы тебя ждали, а ты не приехал. Почему ты не приехал?
Я стал оправдываться, но меня не слушали. Однако мало-помалу мы втягивались в домик, доставали, ставили на стол свои припасы. Являлись к столу отдельные представители интеллигенции Варшавы, по тем или другим причинам заночевавшие в домике. Одного интеллигента нашли в садике заснувшим под яблоней на траве. Настроение поднималось, о несбывшемся забывалось. Нас поселили в двух спальных комнатах на втором этаже. Внизу была большая гостиная с прекрасной библиотекой польских, французских, английских, русских старинных отборных книг, кабинет хозяина дома генерала Корчинского, в том виде, каким был при хозяине, с рогами, шкурами, ружьями. В цокольном углубленном этаже тоже можно было жить, туда и переместилась хозяйка с нашимприездом. И так нам всем хорошо зажилось в домике у Божены! Про мальчиков, Гжегоша и Карола, кажется, совсем позабывали, хотя они уже были не маленькие, все видели, по-своему соображали, завязывали знакомство с нашей Катей, впрочем, гораздо осторожнее, чем мы завязали знакомство с Боженой (Катя тогда была очень мамина дочка, да и теперь). В доме у Божены жила ее как бы домоправительница-компаньонка, симпатичная, пухлощекая, с веснушками Веся, приглядывала за мальчиками, главное, кормила (не в обиду маме будь сказано; на маме все в домике на улице Гощинского: и мальчики, и Веся; мама — стратег).