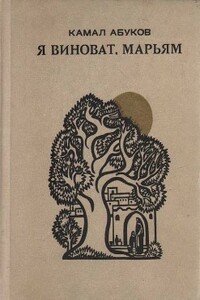Благословенный день | страница 2
Глаза мальчиков были устремлены на Согомона. Не уходи, Согомон, упрашивали глаза. Ты наш, и покинуть нас не смеешь. А вардапет счел вопрос решенным, приблизился и погладил Согомона по голове.
— Готовься, сынок. Утром в путь...
... Закручинился вечер в церковном дворе. Сгустились немые тени, дотлело тепло мощенного двора. Летучая мышь рассекла воздух и исчезла, всколыхнув летнюю ночь.
— Холодно, — поежился один из мальчиков, — пошли. — Но с места не сдвинулся. Ребята окружили Согомона, молчали. Согомон уходил от них, покидала их его каждодневная песня. Нет, не то... Каждый из них мог сказать что-то иное, свое. Но ничья мысль не была произнесена вслух, ничье ощущение не стало словом. В этот миг их чувства уподобились горстке пшена, рассыпанного в темноте на пыльном полу — попробуй собери.
Уж это так: когда одному из стайки сирот приоткроется дорога, когда он хоть на шаг отойдет от своих товарищей, его доля сиротства ляжет поровну на плечи оставшихся. А теперь вместе с этим летним вечером, из «союза армянских сирот» уходил Согомон, уходил, оставляя в этом турецком городе свою долю сиротства мальчикам, столпившимся у стен церкви св. Тороса.
Согомон виновато понурил голову и не понимал, отчего не смеет ни на кого взглянуть. Под его веками притихла щемящая сладостная грусть, и — изойди она слезами — товарищи отпустили бы ему грехи... Но он, несведущий о своем справедливом грехе, не плакал, потому что в ушах у него позванивал утренний свет. Да, завтрашнее утро уже звенело перезвоном бубенцов на шеях лошадей. Перезвон имел цвет солнца и, подобно солнечным лучам, рассеивался по дороге, по пустынному горизонту, по горам, возносился к небосводу, и день был до краев наполнен этим желтым перезвоном. День был круглым желтым колокольцем, подвешенным к шее лошади, везущей фаэтон.
В притворе стоял мрак, и над оцепеневшими мальчиками тосковало молчание. Никто не находил нужных слов, да и не нашел бы. Только один заикнулся было:
— Согомон... Уезжаешь?
Согомон поднял голову, но примешался перезвон бубенцов.
Согомон пожалел — ему хотелось бы запомнить мелодию, но лишь отголосок ее остался в ушах.
— Уезжаю.
И в голосе его была мольба и крик, отвергающие Кютах и сиротство.
Нет, Согомон попросту чуждался товарищей — так восприняли это мальчики, так поняли это и оскорбились.
— Но ты ведь по-армянски не знаешь... В семинарии... — В согомоновых ушах перекатывались слова товарища, словно шарики расплавленного свинца, кувыркались, обжигали уши. Он попробовал припомнить, по крохам собрать родные слова — те, что знал...