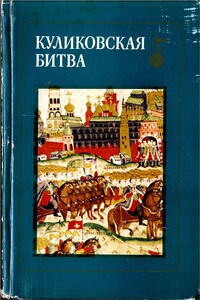Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. | страница 42
Изложив это герцогу Карлу, послы должны были затем заявить, что царь Борис ему «вспомогати учнет» и «Жигимонту королю тебя не подаст», если герцог уступит России Нарву и Сыренск (Нейшлосс) «с уездами». С послами был отправлен и образец соглашения («записи») по этому вопросу. В «записи» указывалось, что герцог уступает города для того, чтобы «великий государь… меня в дружбе и в любви, и во всяких делах не оставил». Предвидя, что герцог Карл не согласится уступить эти города в обмен на столь неопределенные обещания, послам был вручен и другой текст записи, где определенно указывалось, что, если Сигизмунд пойдет войной на Швецию, царь обязуется «вспомогати своею царскою казной или людми, чем будет пригоже» герцогу Карлу[183].
Посольство, как и предшествующие русские гонцы, не было пропущено властями Финляндии, и переговоры с герцогом Карлом по интересовавшему русское правительство вопросу не состоялись. Материалы этого посольства, однако, характеризуют сложившуюся к этому времени позицию русского правительства.
Совершенно очевидно, что русское правительство стремилось на этом этапе добиться приемлемого для себя решения балтийского вопроса путем соглашения с новым шведским правителем и тем самым получить необходимый для России выход к Балтийскому морю. Существенно при этом, что заключением русско-шведского соглашения дело никак не могло закончиться: никакой реальной властью над городами Северной Прибалтики герцог Карл в тот момент не обладал, и русские прекрасно это знали[184]. В окончательном тексте проекта русско-шведского соглашения прямо говорилось о Нарве и Нейшлоссе, «а доступати тех городов великому государю… своею ратью»[185].
Таким образом, в результате подобного соглашения могло возникнуть вооруженное вмешательство России в ход событий в Прибалтике, что, являясь нарушением условий перемирия 1591 г., привело бы к конфликту России с Речью Посполитой.
Естественно, что в этих условиях, идя на союз со Швецией, русское правительство одновременно постаралось предотвратить возможность соглашения между борющимися сторонами, что могло бы поставить вступившую в борьбу Россию в тяжелое и крайне невыгодное положение. Этой цели должно было служить посольство Михаила Татищева и Ивана Максимова, отправленное в феврале 1599 г.[186] в Речь Посполитую, чтобы «обестить» Сигизмунда III о воцарении Бориса. Как видно из переписки Сигизмунда с его шведскими советниками[187], во время переговоров послы информировали короля о планах герцога Карла перенести войну в заморские владения Швеции, а также о том, что правитель уже присвоил себе королевский титул, каковым он именуется в своих письмах к русскому правительству. Эти сообщения, последнее из которых вообще не соответствовало действительности, как видим, было явно направлены на то, чтобы вызвать еще большее обострение отношений между Сигизмундом III и его шведскими противниками и должны были замаскировать перед политиками Речи Посполитой истинную позицию русского правительства.