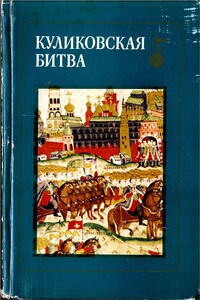Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII в. | страница 27
Не оправдались, однако, и расчеты русского правительства. Обострение внутриполитической борьбы в Речи Посполитой не привело к изменению взглядов польско-литовских политиков на балтийскую политику России. В уже цитировавшемся выше письме Кр. Радзивиллу Ян Замойский подчеркивал, что русские не должны иметь доступа в Нарву, так как выход к морю может способствовать усилению России в будущем. Международное положение также не могло склонять сенаторов к уступчивости. К началу переговоров в Яновце конфликт с Турцией был полностью урегулирован: польские послы вернулись из Константинополя с утвержденным султаном текстом мирного договора[112]. Вместе с тем началась война между Россией и Крымом, и летом 1591 г. орда хана Казы-Гирея подошла к самой Москве. Кроме того, в Речь Посполитую стали приходить известия о внутриполитических осложнениях в России[113]. В таких условиях добиться пересмотра польско-литовской позиции по вопросу о Нарве было невозможно для русских дипломатов. В результате по особому договору на Нарву были распространены условия русско-польского соглашения о городах шведской Эстонии[114].
Теперь продолжение войны со Швецией потеряло для русского правительства всякий смысл. Одновременно продолжение войны стало терять смысл и для Швеции. Энергичные усилия шведских полководцев, пытавшихся под Новгородом и в Карелии осуществить разработанные в Стокгольме планы восточной экспансии, закончились полной неудачей: шведским войскам не удалось занять ни одного из русских городов[115]. Когда же зимой 1592 г. русские войска нанесли ответные удары по шведским крепостям в Финляндии, шведская армия не смогла оказать им серьезного сопротивления. С продолжением военных действий перевес России становился все более очевидным