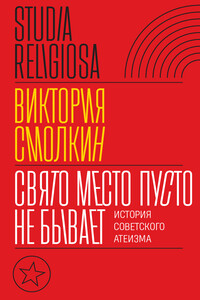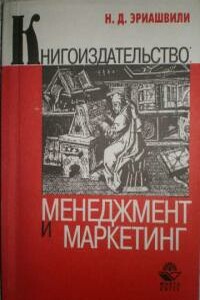Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов | страница 39
Ситуация в других странах отличается. В Голландии только в 1994 году стало возможным забрать останки, а в Швеции распоряжение останками все еще контролируется. Такое положение иллюстрирует мысль Жана Бодрийяра[129] о монополии жрецов на смерть с сопутствующим ростом власти над живыми.
Помня о сказанном, обратимся к трем пунктам концепции Герца, о которых мы уже подробно говорили в главе 1. Основные его идеи: 1) абстрактная проблема отношений между обществом и телом каждого индивида, составляющего его, 2) помещение кремации в более обширный ритуальный контекст и 3) кремация как форма инициации.
Вызов, который смерть бросает обществу, не является сокрушительным именно потому, что существуют ритуалы, убеждающие, что из корректирующего акта проистекает некое символическое постоянство. Старая идентичность разрушена, и это угрожает социальной стабильности, но создается новая идентичность. Хотя тело как макрокосм общества действительно умирает, ассоциированный с ним человек не прекращает существовать из‐за того, что его или ее идентичность трансформируется. В этом трансформированном состоянии человек в качестве предка продолжает символизировать некоторые аспекты целостного социального мира, так же как и один из сонма святых в христианстве. Несмотря на то что Меткалф и Хантингтон[130] характеризуют концепцию Герца как применимую только к Америке, ее все же можно использовать как удачную модель для описания британского опыта с крематориями. Первый цикл ритуалов, относящихся к «влажному» символическому субстрату — телу, состоит из подготовки тела, совершаемой в церкви или в часовне при крематории, и делает акцент на жизни, идентичности и социальном статусе умершего. Видимый ритуальный объект — это гроб, где лежит тело, которое подвергнется гниению. Второй цикл ритуалов относится к «сухому» символическому субстрату — кремированным останкам. Относящиеся к ним ритуалы претерпели примерно в 1980‐х годах значительные изменения, а именно, как было показано на примерах из некоторых крематориев, отход от институционального к персональному захоронению останков, происходивший в более широком контексте перехода от формальных заявлений к сдержанному шепоту, выражающему сокровенные мысли.
Сдвиг в сторону персонального захоронения останков подразумевает, что живущие родственники забирают их и переносят в некое место, связанное с жизнью умершего и значимое для него. В этом случае, например, прах могут развеять на гоночной трассе, площадке для игры в крикет или на реке, где любил рыбачить умерший. Все перечисленное связано с удовольствиями от хобби. Так, например, за последнее десятилетие примерно полдесятка урн в год захоранивается на всемирно известной площадке для крикета «Trent Bridge» в Ноттингеме; обычно захоронение находится рядом с местом, где любил сидеть умерший. Немного иную группу случаев формируют более частые захоронения в местах с красивой природой или в саду у дома самого умершего. Захоронение в этом случае можно интерпретировать как указание на семейную жизнь умершего, как мемориал отношений пары на фоне гораздо более модернизированной жизни в британском городе. Сказанное можно интерпретировать как британскую форму «реализации» социального человека в рамках ретроспективного взгляда на его жизнь. Это противоречит мнению Меткалфа и Хантингтона