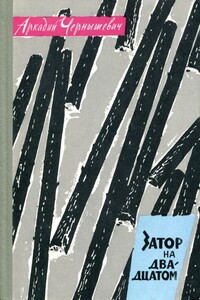Расплата | страница 43
— Аух! — как сумасшедший завопил он. — Здорово, Тархудж!
— Будь здрав, Парнаоз! — живо откликнулся я и сразу пришел в себя.
Мы обнялись.
— Вы, кажется, где-то кутили, юноша! — патетически провозгласил Парнаоз, оглядывая меня с головы до ног.
— И вы тоже не выглядите голодным и жаждущим!
— Ха-ха-ха-ха! — закатился мой веселый приятель. — Когда в полночь встречаются две благородные личности, это дело необходимо отметить! — воскликнул он.
— Непременно! — поддержал я.
— Тогда — вперед! — Парнаоз простер руку, и полчаса спустя мы уже были в Ортачала, сидели на застекленной веранде старого дома Парнаоза и тешились вином.
Наутро я проснулся очень рано. Голубоватый свет заливал веранду. Со сна я сначала не сообразил, где нахожусь. Постепенно узнал тесную комнатушку Парнаоза. Услышал храп — одетый Парнаоз спал, растянувшись на тахте. Стол был завален неприбранной посудой и пустыми бутылками. Я припоминал, как заявился сюда среди ночи, как пил, пел и хохотал. Вспомнил свое взвинченное веселье. Затем вспомнилась Софико, ее полутемная комната, где я высказал все, где без утайки открыл душу и сразу обрел удивительную свободу. Необычайные легкость и радость окрыляли меня. Я был горд, что пересилил себя, избавился от рабского ярма, так долго тяготевшего надо мной, как будто разом разорвал цепи и освободился. На редкость привлекательным представлялось мне будущее в то утро.
Нечто подобное пережил я, когда умерла моя тетя. У нее случилось кровоизлияние в мозг, и три дня бедняжка находилась в беспамятстве. За эти три дня я не сомкнул глаз, не проглотил и куска хлеба. Как ненормальный носился я то за врачами, то в аптеку, словно утопающий хватаясь за любую соломинку в надежде спасти тетю. И вот однажды вечером, когда я бегом возвращался домой с лекарствами, на лестнице меня остановил один из наших родственников:
— Мужайся, Тархудж, тетя скончалась…
И первое, что вместе с пронзительной душевной болью испытал я в это мгновение, было облегчение, даже что-то вроде радости, оттого что мучительное ожидание закончилось. Видимо, самое невыносимое в жизни — это неопределенность…
С того дня я перестал мечтать о Софико и окончательно избавился от своего наваждения. Думается, это удалось мне потому, что к тому времени страсть моя исчерпала себя, и хотя Софико оставалась такой же, ничуть не изменилась, чувств моих как не бывало. Конечно, первична — страсть, независимое ни от кого желание любить. Будь это не так, нам не удалось бы забыть одну женщину и увлечься другой. Но поскольку нам удается это сделать, значит, любовь к женщине отнюдь не бескорыстна. В таком случае можно ли такое чувство называть любовью?