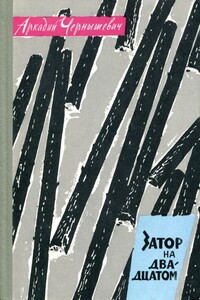Расплата | страница 41
Самое удивительное, что я не пытался ничего изменить. Кроме Софико, я ни о ком не думал и никого не желал. Ко всему же еще подмешивалась надежда, что все вдруг само собой изменится к лучшему, хотя я не представлял, что должно случиться, как может измениться мое состояние, которое я усердно скрывал от всех. Время между тем шло, я привык к своей безответной любви так же, как хронический больной привыкает к неотвязному недугу. Мое молчание, вечное притворство и полнейшая бездеятельность действовали на нервы, иногда хотелось разом оборвать всю эту неясность, и, хотя я сознавал неразумность своего желания, мне все-таки хотелось, чтобы Софико узнала правду.
Однажды…
Это случилось вскоре после гибели Важа.
…Была осень. Я сидел в ресторане на Нарикале и пил, любуясь вечерним, по-осеннему пестрым и грустным садом, багряными, желтыми и зелеными тонами. «Суета сует, все суета», — неотвязно вертелось в голове, и я неожиданно встал из-за стола. Друзья с удивлением воззрились на меня:
— Ты куда?
— Через час вернусь.
— Пойти с тобой? — предложил Вахтанг.
Насмешливо улыбнувшись, я наклонился и поцеловал его.
— За здоровье того предателя, который не заслуживает смерти, — как заправский гуляка провозгласил я, опорожнил стакан и пошел прочь.
Я уже не помню, как оказался у дома Софико. Хмель одолевал меня все больше. Я вытер пот с лица, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Послышалось шарканье шагов, дверь отворила домработница.
— Софико дома?
Софико была дома. Она лежала на диване и при свете бра читала книгу. В голубом платье с высоким глухим воротом она казалась легкой и воздушной, как весенний туман, подернувший на заре синие горы. Лицо ее выражало какое-то смутное ожидание. В тонкой, еще не оформившейся фигуре, казалось, не было ничего женского, но нежнейшая женственность незримой аурой окружала все ее существо.
— Тархудж? — с ласковой улыбкой приподнялась она и указала на стул рядом с диваном. — Ты пьян?
Она всегда встречала меня приветливо и ласково. Я сел на стул и долгим взглядом посмотрел ей в лицо. И снова, в который раз, почувствовал, как поразительно дорога она мне. Дорога и близка, далека и недоступна. Я начал говорить. Я почти шептал; пересыхал рот, но я не останавливался, словно боясь, что меня перебьют, не выслушав до конца. Я сказал все, что хотел сказать, все, что столько времени таил в душе, все, что запруженной рекой рвалось наружу, грозя прорвать плотину и погубить меня. Я чувствовал, как открылись шлюзы, представив водовороту выход, и я постепенно становился все более и более свободным, пустым, опустошенным, курил сигарету за сигаретой и говорил, говорил, говорил… Я говорил, что безгранично, больше самого себя люблю ее и у меня уже нет больше сил молчать и выносить эту муку. Я говорил, что не ищу сочувствия, не желаю его, поэтому мы должны расстаться, стать чужими, пусть отныне она не считает меня своим другом, а я постараюсь как-нибудь забыть ее, так лучше для нас обоих, другого выхода нет, да я и не могу по-другому…