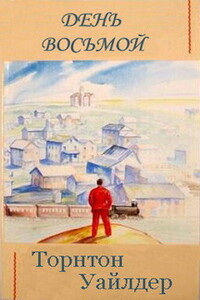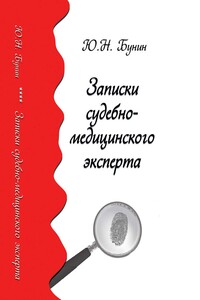Каббала | страница 2
Итальянский фон необходим здесь уже по той причине, что в Америке вовсе не так отчетливо чувствовались опустошения, произведенные войной, и перелом, ею ознаменованный, а Уайлдер писал как раз об этом. Его персонажи словно выпали из времени, но в действительности они только стараются — наивно, беспомощно — остановить его разрушительное движение, законсервировав обреченные на гибель формы жизни или реставрировав другие, безнадежно устаревшие. Эта борьба с современностью, воспринимаемой героями Уайлдера только как непрерывная деградация, как угроза всему, чем они дорожат, составляет истинное побуждение, сплотившее людей, порою кажущихся восковыми фигурами или манекенами из музейной витрины. Не каббала святош, как у Булгакова в пьесе о Мольере, а каббала обреченных, чей орден будет разрушен временем, разрушающим все на земле.
Этот сюжет окажется из самых важных для Уайлдера, воплощаясь у него то в формах, близких к гротеску, то в лирическом контексте, то с явственным оттенком трагедийности. И по своей главной коллизии, и по сложной, изменчивой тональности «Каббала» как бы открывает цикл, увенчанный несколькими шедеврами. Достаточно вспомнить знаменитую пьесу «Наш городок»: несколько десятилетий, отрывочно намеченная хроника жизни двух семей и пронзительно звучащая нота неостановимого времени — оно беспощадно в самом прямом значении слова.
Недоброжелатели Уайлдера часто сравнивали его произведения с музейной экспозицией, утверждая, что он равнодушен к тревогам и болям своего времени. Это крайне несправедливый упрек. Просто по характеру дарования Уайлдер не относился к тем, кто черпает вдохновение, обращаясь к злобе дня. Он предпочитает нескрываемую условность событий, смешение достоверности с фантастикой, и Вергилий, с которым накоротке беседует повествователь, покидая Италию, — ход, очень типичный для зрелого Уайлдера, а не просчет неопытного прозаика, как показалось первым рецензентам «Каббалы». В произведениях Уайлдера действие, если под ним понимать стройность фабулы, никогда не главенствует, а композиция почти всегда отрывочна, эпизодична, — «Каббала» характерна и в этом отношении. Тут иные художественные законы, иной тип писательского мышления. Кстати, в Европе это всегда понимали лучше, чем в Америке, и ценили созданное Уайлдером выше, чем его соотечественники.
Сила Уайлдера — в умении с покоряющей убедительностью реконструировать давно ушедшие эпохи, приблизив их к читателю настолько, что перестает ощущаться их экзотичность, и все происходит словно у нас на глазах, идет ли речь о Риме, ожидающем убийства Цезаря, или о Перу начала XVIII столетия. Обвинения в том, что это не литература, а муляж, тенденциозны и оттого, что эта реконструкция никогда не бывает в произведениях Уайлдера самоценной. Она нужна для того, чтобы появилась дистанция, с которой яснее виден настоящий смысл происходящего сегодня. Уайлдер дорожил не правдивостью фактографии, а масштабностью обобщающей коллизии, которая всегда затрагивает у него область высших ценностей человеческого существования. И кроме того, он дорожил смелостью или, во всяком случае, вызывающей нешаблонностью идеи. Он мог предложить совершенно нетрадиционное истолкование даже такого вроде бы исчерпанного сюжета, как миф о творении, каким он предстал в его романе «День восьмой». Ему было по силам в хронике будничности обнаружить отголоски вечных проблем, над которыми бьются философия и культура.