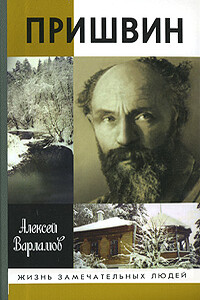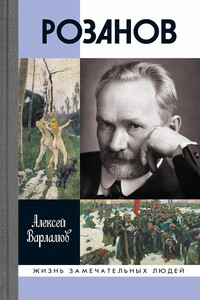Алексей Толстой | страница 52
Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 908 года. Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике-трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.
В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали — о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…
Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилев глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость.
Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, — точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев.
Так я никогда и не узнал, из-за чего он тогда хотел умереть[5]. Теперь окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужествен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами»>{115}.
Трудно сказать, сколько правды в этом мемуаре Толстого. В отличие от Волошина слишком разными, едва ли не противоположными по складу ума и характеру людьми они были — расстрелянный в 1921 году офицер русской армии, который начинал с того, что верил, по выражению Агатовой, в символизм, как верят в Бога, и закончил его отрицанием, — и открытый всем веяниям, не озабоченный принципами и литературными манифестами Толстой. Там, в Париже, из разговоров с Волошиным и Гумилевым Толстой сделал для себя важное заключение — чтобы состояться, чтобы стать поэтом, нельзя никому подражать, не надо Надсона — Некрасова, революции, борьбы за освобождение народа, к которой призывал Бостром, а надо — искать себя, свой голос, свою тему, манеру. И он их нашел.
Его нишей стал русский фольклор, стихия народной поэзии, крестьянской жизни, русское, славянское, языческое — Сосновка.
Бунин позднее замечал, что ничего оригинального в этом не было, Толстой «следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочно русского»>{116}. Это верно: были и Ремизов, и Городецкий, и Вяч. Иванов, а позднее Клычков (который, впрочем, начинал почти одновременно с Толстым), Клюев (которому Толстой помог напечатать книгу в издательстве К. Ф. Некрасова в 1912 году) и Сергей Есенин, однако если бы молодой граф писал, как все тогда писали, и более ничего, то никто бы о нем не стал говорить. А между тем из Парижа Толстой вернулся пусть не знаменитым, но многообещающим поэтом, и его «русские» стихи заслужили одобрение самых взыскательных людей.