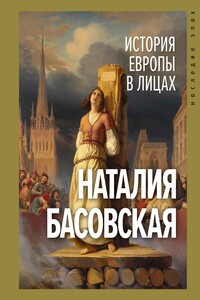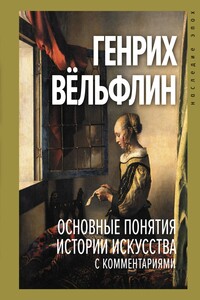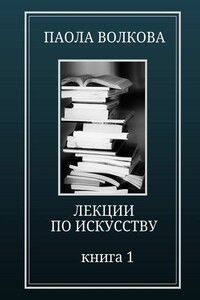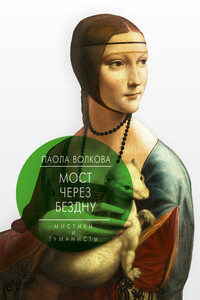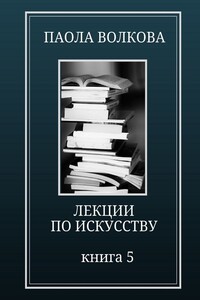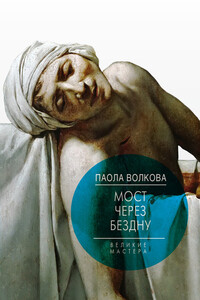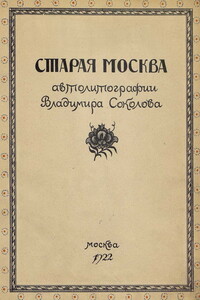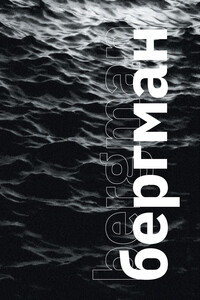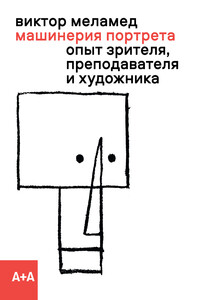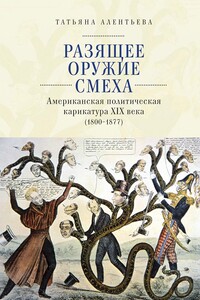Полная история искусства | страница 37
В середине ХVII века был найден пергаментный список с песнями «Старшей Эдды», как бы написанный в ХIII веке. Вернее «записанный» в ХIII веке по существовавшим в устной традиции песням скальдов. Принятие христианства и христианские традиции переплетаются с древней нордической мифологией. Так, рунические камни, установленные в ХI веке, венчаются изображением Христа. И записанная в ХII – ХIII вв. полная версия «Песни о нибелунгах», выстроенная в некое поэтическое единство, – героическая эпопея с флером идей христианских. (Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах, М., 1975. Вступительные статьи Л.Я. Гуревича. Перевод А.И. Корсун)
Сага о «Кольце нибелунга» всплывает вновь, вызывая интерес к средневековой культуре, в исследовании, в поэзии не меньший, чем раскопки Генриха Шлимана в ХIХ веке. Событием было издание в 1835 году фундаментального исследования Якова Гримма «Немецкая мифология». И последовавшие с 1854 по 1874 годы, т. е. в течение 20 лет, постановки четырех опер Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга»: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов».
Весь ХIХ век увлечен античностью, ее идеями, искусством, поэзией. Археология буквально взрывает своей несомненностью культуру. Создаются музеи и собрания античного искусства.
Одновременно, с не меньшим энтузиазмом, ХIХ век воспринимает на волне романтизма таинственный мир европейской средневековой мифологии и поэзии. Классицизм и романтизм живут рядом в сложном взаимосплетении античности с романско-готическим героическим эпосом «Нибелунгов», «Песни о Роланде», «Короля Артура» и т. д. Хотелось бы вспомнить и русскую героико-лирическую поэму «Слово о полку Игореве» в пересказе поэта Василия Жуковского 1824 года издания. Немало споров вызвала подлинность текстов поэмы. Но этот вопрос мы оставляем за скобками. Поэма подлинна. По свидетельству она была написана около 1185 года и рассказывала о трагической истории похода князя Игоря Святославовича на половцев буквально за 50 лет до начала монгольского нашествия на Русь. И что за диво! Как своей внешней конструкцией напоминает она «Илиаду». У поэмы как бы два автора: объективный историк и старый поэт. Историк полемизирует со сказителем по имени Боян. Боян «вещий» – сын Велеса (О2дина). «О Боян, – обращается к нему наш объективный историк, – соловей старого времени, если бы ты полки эти воспел, возлетал умом под облака, свивая слова вокруг нашего времени, возносясь по тропе трояновой с полей на горы…» Но наш объективный свидетель-документалист не может победить Бояна и все равно сворачивает на «тропу троянову». Роль Андромахи исполняет жена князя Игоря – Ярославна. «Бессонница… Гомер». Какими таинственными путями Русь ХII века «промокается» вселенской матрицей Гомера. Приходит в мир человек и переводит навсегда стрелки культуры, образа, стиля, становясь рубежом в истории культурного сознания. Автор «Слова» так же анонимен, как и предшествующие авторы. Будем условно считать его одним из скальдов-бардов-сказителей, от лица которых ведется повествование. ХII век знаменателен для Европы, для всего мира. Это взрыв, ломка, новые идеи, Крестовые походы. Смена вех не менее глобальная, нежели эпоха Возрождения. Но подробно о ХII веке и героях того времени мы будем говорить в свое время и в другом разделе. Сейчас только упоминаем о тех новых духовных ценностях, которым уготован был долгий путь в будущее и корни древа которого уже проросли за полторы тысячи лет до «Слова». Мы называем это время (от ХII в. до н. э. до ХII в. н. э.) путем становления нового сознания, для которого алфавит, слово, театр, изображение и музыка являют новый непрерывный текст культуры.