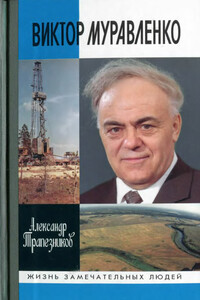Утро седьмого дня | страница 32
Там он в крепости и умер семидесяти пяти лет от роду. В виде монаршей милости его разрешено было похоронить у стены церкви Николая Чудотворца на улице Вене — старейшей православной церкви Ревеля.
Ещё при Екатерине его стали втихую почитать как святого. Есть такой кустарный портрет, где изображён у зарешеченного окна некий старик в шапке и мужицком зипуне, а над ним на стенке — его же образ в золотошвейных архиерейских одеждах. Таким видели ревельского узника младшие современники. Теперь он канонизирован в лике священномучеников. В те восьмидесятые годы, когда я читал в Никольской церкви, канонизация ещё не состоялась, и о неуживчивом покойнике предпочитали помалкивать. Как бы чего не вышло, всё-таки советское время.
Ещё о новых одеждах
В этой истории помимо всего прочего сокрыто одно малюсенькое совпадение. Как в случае с теми Иоселевичами. Просто совпадение имён.
Меня зовут Анджей, то есть Андрей. Записали в документах по-польски, потому что отец поляк и странно было бы писать как при смешении языков: Андрей Анджеевич. В детстве домашние всегда звали Андреем. И в церкви. И за аналоем я стоял как чтец Андрей.
И Мацеевич похоронен там был под именем Андрей.
И был ещё такой Андрей по фамилии Блум. Русский изгнанник шотландского происхождения. Он стал потом митрополитом Антонием Сурожским.
И вот я помогаю батюшке в Никольской церкви, и хожу в стихаре над мощами священномученика Арсения, и примерно в это же время вступаю в прямой контакт с митрополитом Антонием.
Именно так: в прямой контакт, глаза в глаза, как с близким другом.
Хотя мне так и не довелось ни разу увидеть его или услышать вживую.
Но однажды кто-то, не помню, из православных знакомых сунул мне тайком пачку листков с машинописью, шепнув: «Прочитай!» Такая тонюсенькая бумага с полуслепыми строчками. И железная скрепка наверху. Запрещённую литературу тогда перепечатывали под копирку на тонкой бумаге, чтобы сделать побольше экземпляров. Всякая литература про Бога была запрещённой. За её изготовление, хранение и распространение можно было схлопотать до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах и больше. Так что это было проявлением большого ко мне доверия — сунуть тайком пачку папиросных листочков.
И ещё мне шепнули:
— Это митрополит Антоний.
Пауза.
— Сурожский.
Уточнение нужное, потому что у нас, в Ленинграде, тогда был тоже митрополит Антоний, который ничего такого подверженного запретам не делал и не писал.
— Как, ты не знаешь? Антоний, который в Лондоне.