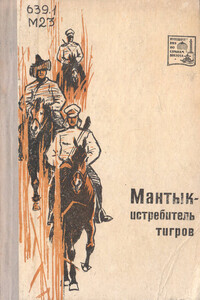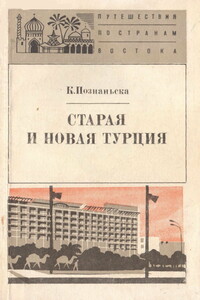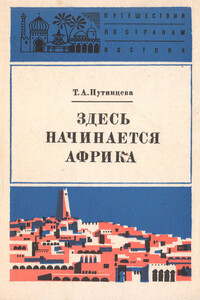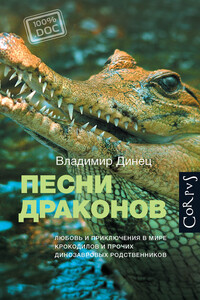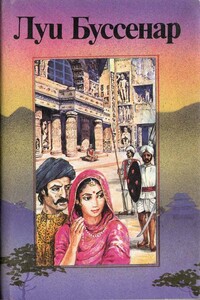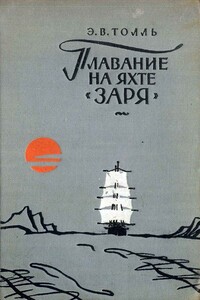Восточней Востока | страница 29
Абстракционист Сугимата в своей мастерской
Абстракционист Сугимата у себя в мастерской обстоятельно рассказывал о своем творческом пути, о том, как после долгих поисков он пришел к своему геометрическому мотиву — шестиугольнику. «У Мондриана — квадрат, у меня — шестиугольник, — говорил он. — Правильный шестиугольник для меня — самая красивая, самая гармоничная фигура, ее мягкий угол, чем-то перекликающийся, может быть, со спокойным изгибом локтя, колена, более всего соответствует восточному образу мыслей, в то время как прямой угол Мондриана выражает суть европеизма…» И действительно, в большинстве работ последних лет, как в живописи, так и в объемных, похожих на коробчатых змеев конструкциях из толстого картона, которые, по словам автора, стоят на грани живописи и скульптуры, шестиугольники в том или ином виде присутствуют. Иногда ясные, как плитки кафельного пола, иногда более смутные.
Сугимата известен в художественных кругах, он выставляется на венецианской «Биеннале», у него был уже десяток персональных выставок, но с этих-то выставок он как раз ничего не имеет, наоборот: должен платить за помещение. А средства к жизни он добывает, выступая как художник-иллюстратор, причем в плане сугубо реалистическом!
Так что не все укладывается в схему.
Одно, по-видимому, бесспорно: экстравагантное искусство, представленное на сегодня «собакой длиной в два с половиной метра» и пластикатовыми композициями «Тренда» (одну из них сами авторы назвали «надувным искусством»), выражает глубокий кризис художественной мысли, утрату каких бы то ни было критериев и точек отсчета. Я бродил по выставкам, и, несмотря на то что прежде мне, как нетрудно догадаться, далеко не часто приходилось видеть подобные вернисажи, многое казалось на удивление знакомым — по каким-то где-то виденным репродукциям, по статьям, чьим-то рассказам. Думалось: ну сколько раз, в самом деле, можно решать одну и ту же, пусть небезынтересную, технико-художественную задачу — доказывать, что есть тонкие переходы, оттенки даже не цвета, а бог весть чего, позволяющие изобразить «белое на белом»? Сколько раз можно комбинировать «картину мира» из газетных вырезок, этикеток от винных бутылок и сигарет? Сколько раз можно пропарывать холст энергичными взмахами бритвы?
Это чувствуют и сами художники. Они ищут, по их собственным словам, новые пути. Но поиск идет в основном по линии технической изобретательности. На ходкам иногда нельзя отказать в остроумии, по круг мыслей и эмоций, доступных выражению такими средствами, удивительно узок — даже если принять, что китовый скелет действительно как-то выражает идею неба. На каждой выставке — почти обязательно несколько «небес», обязательно что-нибудь вроде «цветов зла», «жизни человеческой», «современности», «нашего века» и прочих достаточно общих категорий. Все это вызывает иногда любопытство, но лишь изредка встретишь вещь, которая действительно какими-то загадочными, тайными путями проникает в душу и заставляет волноваться.