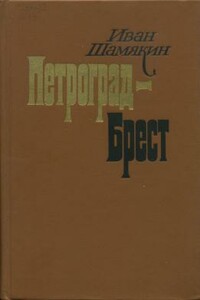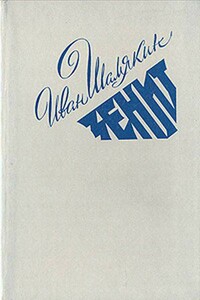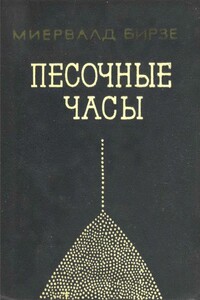Тревожное счастье | страница 62
Даник хорошо видел кусок шоссе и мост через речку. Вскоре перестали рваться снаряды, шоссе опустело. В деревне тоже было пусто и тихо. Вдоль ручья, под прикрытием ольшаника, отступали пехотинцы; они шли по одному, по два, перебежками, согнувшись, хотя никто по ним не стрелял. Война на минуту затихла. Но от этого еще страшнее стало и Данику на груше и женщинам в яме. Саша без слов тянула колыбельную. Малышка отрывалась от пустой груди и кричала: она хотела есть. Ее крик пугал женщин, как будто он мог накликать беду. Поэтому все, даже дети соседки, кто как мог, успокаивали ее — укачивали, пели ей «кота». Они забывали о том, что Ленке всего два месяца и никакая колыбельная ее не успокоит, молоко — вот что ей было нужно.
Через мост прошел грузовик и, свернув в кусты, остановился. Из кузова выскочили красноармейцы, потащили к мосту ящик, засуетились.
«Взорвать мост хотят», — понял Даник и с детским любопытством и нетерпением стал ждать взрыва, прикидывая, может ли долететь до него осколок. Вдруг за мостом раздался стрекот, и из-за поворота шоссе выскочили мотоциклисты. Даник понял, что это немцы, только тогда, когда двое из них, почти достигнув моста, как-то странно перекувырнулись, а один мотоцикл скатился по насыпи в речку, и там все продолжали вертеться его колеса, разгоняя кругами воду. Даник пулей слетел с груши, крикнул в убежище: «Немцы!» — и снова полез на грушу.
Он услышал, как вскрикнула Саша. С ребенком на руках она бросилась к выходу.
Поля и соседка вцепились в нее, не пускали. Заплакали дети.
— Куда ты теперь убежишь? Куда кинешься? Хочешь, чтобы застрелили?
То ли это страшное слово, то ли частые выстрелы, щелкавшие теперь уже довольно громко, заставили Сашу изменить свое намерение; она снова забилась в угол. Трясясь всем телом, прижалась к влажной земле. Она видела их перед собою, немцев. Перед ее глазами снова, как уже не раз, встал тот, что вел ее на расстрел. Каждая черточка его лица врезалась ей в память. Молодой, даже красивый, с приветливой улыбкой… Теперь, когда она знает, что он вел их на расстрел, от этой улыбки леденеет кровь. Как он мог так улыбаться! А за ним стоит тот, второй, что сказал: «Курт, дэн зойглинг дарфст ду нихт эршиссен…» Теперь Саша точно знает смысл этих слов: «Курт, ребенка можешь не убивать». И вот он опять стоит, опять произносит эти страшные слова, показывая пальцем на Ленку и пряча лицо… Саше страшно, но ей очень хочется увидеть это лицо. Она напряженно вглядывается в пустоту. В ее больном воображении встает нечеловеческая образина, жуткая, обросшая звериной шерстью. Во время коротких приступов этой непонятной болезни, которая тянется почти месяц, ей никогда не является третий немец, тот, что первым вышел из лесу и что побледнел, когда «герр лейтенант» приказал их расстрелять. Этого она вспоминала, только когда голова была ясная, когда рассказывала кому-нибудь об ужасной встрече в лесу. Тогда вспоминалось все до мелочей. Только лица того, который сказал: «Ребенка можешь не убивать», Саша никак не могла вспомнить, поэтому во время припадков он стоял перед ней, безликий и оттого еще более страшный. Вот и сейчас ей показалось, что его нечеловечья мохнатая рука тянется к Ленке. Саша закрыла глаза и закричала: