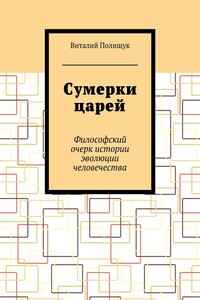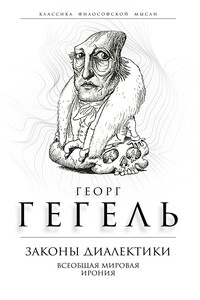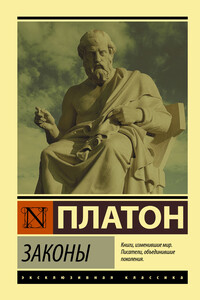Средства без цели. Заметки о политике | страница 8
Мы уже привыкли проводить различие между лицами, не имеющими гражданства, и беженцами, но ни тогда, ни сегодня это различие не было таким простым, как это может показаться на первый взгляд. С самого начала многие беженцы, которые с технической точки зрения не были лицами, лишёнными гражданства, предпочитали скорее стать таковыми, чем вернуться на родину (таков случай польских и румынских евреев, находившихся в конце войны во Франции и Германии, а сегодня лиц, преследуемых по политическим мотивам, и тех, для кого возвращение на родину подразумевает невозможность выжить). С другой стороны, русские, армянские и венгерские беженцы были оперативно денационализированы новыми советским, турецким и прочими правительствами. Важно отметить, что со времени Первой мировой войны многие европейские государства начали вводить законы, позволявшие проводить денатурализацию и денационализацию своих собственных граждан: первой, в 1915 году, стала Франция в отношении натурализованных граждан «вражеского» происхождения; в 1922-м этому примеру последовала Бельгия, отменившая натурализацию своих граждан, совершивших «антинациональные» действия во время войны; в 1926-м фашистский режим издал аналогичный закон в отношении граждан, продемонстрировавших, что они «недостойны итальянского гражданства»; в 1933-м настал черёд Австрии, и так далее, до тех пор, пока в 1935-м Нюрнбергские законы не разделили немецких граждан на полноправных граждан и граждан без политических прав. Этими законами – и массовым лишением гражданства, которое они повлекли, – отмечен решительный поворот в жизни современного государства-нации и его окончательное освобождение от наивных понятий народа и гражданина.
Мы не будем воссоздавать здесь историю различных международных комитетов, посредством которых государства, Лига наций и позже ООН пытались решать проблемы беженцев, от Бюро Нансена по делам русских и армянских беженцев (1921), Верховного комиссара по делам беженцев из Германии (1936), Межправительственного комитета по делам беженцев (1938), Международной организации по делам беженцев ООН (1946) до нынешнего Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (1950), чья деятельность, согласно уставу, носит не политический, а исключительно «гуманитарный и социальный» характер. Важно, что эти организации, так же как и отдельные государства, несмотря на торжественные упоминания о неотчуждаемых правах человека, каждый раз, когда беженцы представляли собой уже не индивидуальные случаи, а массовые феномены (как это происходило между двумя мировыми войнами и вновь происходит теперь), выказывали себя абсолютно неспособными не только разрешить проблему, но и просто адекватно иметь с ней дело. Таким образом, этот вопрос был полностью передан в руки полиции и гуманитарных организаций.