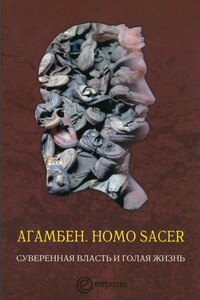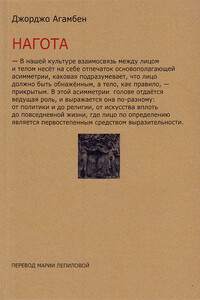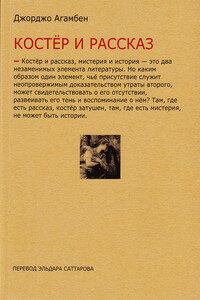Что ж, нас это не касается. Мы уже не можем провести различия между
zoé и
bios, между нашей биологической жизнью живых существ и нашим политическим существованием, между непередаваемым и немым и тем, что может быть высказано и сообщено. Как однажды написал Фуко, мы – животные, в чьей политике под вопрос поставлена сама наша жизнь живых существ. Жизнь при чрезвычайном положении, ставшая правилом, подразумевает следующее: наше частное биологическое тело становится неотличимым от нашего политического тела, опыт, некогда называвшийся политическим, неожиданно ограничивается нашим биологическим телом, а частный опыт вдруг предстаёт вне нас как политическое тело. Нам пришлось привыкнуть мыслить и писать в условиях этой путаницы между телами и местами, между внутренним и внешним, между немым и говорящим, между рабством и свободой, между потребностью и желанием. Всё это обладает значением – почему бы не признать это? – опыта абсолютного бессилия, когда мы каждый раз сталкиваемся с одиночеством и немотой именно там, где надеемся на компанию и диалог. Мы пережили это бессилие как смогли, пока нас повсюду сопровождала шумиха масс-медиа, определявшая новое планетарное политическое пространство, где исключение стало правилом. Но именно отталкиваясь от этой неопределённой почвы, от этой смутной зоны неразличимости, мы должны сегодня вновь отыскивать другой путь для политики, другое тело, другое слово. Ни под каким предлогом я бы не хотел отказаться от этой неразличимости между публичным и частным, между биологическим и политическим, между
zoé и
bios. Именно в ней я должен вновь обнаружить своё пространство – здесь или нигде. Меня может заинтересовать только политика, отталкивающаяся от данного осознания.
Помню, как в 1966 году в Ле Тор на семинаре о Гераклите я спросил Хайдеггера, читал ли он Кафку. Он мне ответил, что из немногого прочитанного им его особенно впечатлил рассказ “Der Bau”, «Нора». Неназванное животное (крот, лиса или человек), главный герой рассказа, занято выполнением навязчивой идеи строительства неприступной норы, которая в итоге оказывается ловушкой без выхода. Разве не то же самое случилось с политическим пространством национальных государства Запада? Дома («отечества»), над чьим строительством они столько трудились, в итоге оказались для населяющих их «народов» лишь смертельными ловушками.
После окончания Первой мировой войны фактически стало ясным, что у европейских национальных государств более не осталось конкретных исторических задач. Полным заблуждением было бы рассматривать природу крупных тоталитарных экспериментов ХХ века как продолжение реализации последних задач национального государства XIX века: национализма и империализма. Ставка в этой игре была совсем иной, более радикальной, потому что речь шла о принятии на себя ответственности за чистое и простое фактическое выживание народов – то есть, в итоге, за их голую жизнь. Тем самым тоталитаризм нашего века на деле представляет собой воплощение идеи Гегеля – Кожева о конце истории: человек уже достиг своего исторического