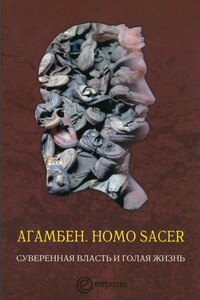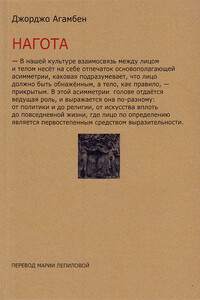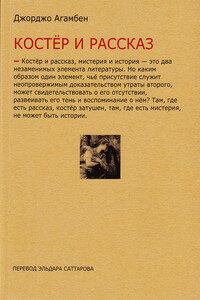Средства без цели. Заметки о политике | страница 53
В этом изгнании.
Итальянский дневник 1992-94
Говорят, что выжившим людям, вернувшимся – и продолжающим возвращаться – из лагерей, всегда было нечего рассказывать, и чем более достоверным было их свидетельство, тем менее они пытались рассказать другим о том, что пережили. Выглядело так, как если бы они сами первыми подвергали сомнению реальность того, что они пережили, – не спутали ли они случайно свой кошмар с реальностью. Они знали – и знают – что не стали «мудрее, глубже, лучше, человечнее, или добрее к другим людям» после Освенцима или Омарски, наоборот, они вышли оттуда раздетыми, опустошёнными, дезориентированными. И у них не было никакого желания говорить об этом. Отдалившись на должное расстояние, мы должны признать, что это ощущение подозрительности к собственному свидетельству в чём-то присуще и нам. Ничто из того, что мы пережили в эти годы, по всей видимости, не даёт нам права говорить.
Подозрительность к своим собственным словам появляется каждый раз, когда утрачивает свой смысл различие между частным и публичным. Что на самом деле пережили обитатели лагерей? Исторические и политические события (как, например, солдат, участвовавший в битве при Ватерлоо) или чисто частный опыт? Ни то, ни другое. Был ли узник евреем в Освенциме или боснийкой в Омарске, он попал в лагерь не из-за политических убеждений, а из-за самого частного и непередаваемого, что в нём есть: из-за своей крови, из-за своего биологического тела. Но именно эти факторы сегодня выступают в качестве решающих политических критериев. Лагерь в этом смысле является инаугурационной площадкой современности: это первое место, где публичное и частное, политическая и биологическая жизнь становятся совершенно неразличимыми. Будучи отрезанным от политического сообщества и сведённым к состоянию голой жизни (более того, к жизни «не заслуживающей того, чтобы быть прожитой»), узник лагеря на деле является абсолютно частным человеком. В то же время для него не остаётся ни одного момента, когда он мог бы найти убежище в частном, и именно это состояние неразличимости представляет собой особую тоску лагеря.
Кафка первым точно описал этот особый вид мест, ставший с тех пор абсолютно знакомым. Самым беспокойным и вместе с тем комичным аспектом во всём деле Йозефа К. является тот факт, что публичное по определению событие – процесс – представляется здесь как абсолютно частный факт, когда зал суда соседствует со спальней. Именно в этом «Процесс» является пророческой книгой. И не столько – или не только – о лагерях. Что мы пережили в восьмидесятых? Уникальные по своей бредовости частные события или решающий момент итальянской и планетарной истории, чреватый готовыми взорваться событиями? Кажется, что всё пережитое нами за эти годы попало в смутную зону неразличимости, где всё смешивается и становится невразумительным. Были ли, например, факты операции «Чистые руки»