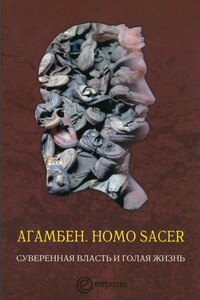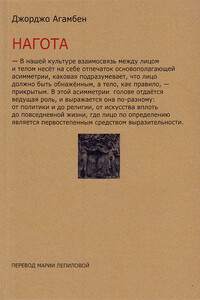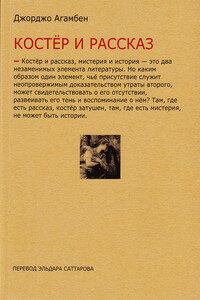Средства без цели. Заметки о политике | страница 50
Таким образом, суверенитет – это охранник, препятствующий выходу на свет неразрешимого порога между насилием и правом, природой и речью. Мы же должны пристально наблюдать как раз за тем, чего не должна была видеть статуя Правосудия (которой, согласно Монтескье, завязывали глаза в момент объявления чрезвычайного положения), а именно (как сегодня ясно для всех), что чрезвычайное положение стало правилом, что голая жизнь является непосредственной носительницей суверенного узла и как таковая она сегодня оставлена на произвол насилия, эффективного в той мере, в какой оно является анонимным и повседневным.
Если сегодня существует социальная жизненная сила, она должна до конца познать своё собственное бессилие и, отклоняя всякую волю к принятию или сохранению права, повсюду разрубать этот узел из насилия и права, жизни и речи, из коего сформирован суверенитет.
4. В то время как упадок государства повсюду позволяет выживать его пустой оболочке в виде чистой структуры суверенитета и господства, общество в своей целостности безоговорочно обречено пребывать в форме общества потребления и производства, ориентированного на благосостояние как на единственную цель. Теоретики политического суверенитета, вроде Шмитта, видят в этом наиболее верный признак конца политики. В самом деле, в планетарной массе потребителей (когда она не впадает просто в старые этнические и религиозные идеалы) абсолютно не просматривается какой-либо новый образ polis.
Тем не менее проблема, с которой сталкивается новая политика, заключается именно в этом: возможно ли «политическое» сообщество, устроенное исключительно в целях полного наслаждения повседневной жизнью? Разве не в этом, если хорошо присмотреться, заключается сама цель философии? И разве когда с Марсилием Падуанским зародилась современная политическая мысль, она не определялась именно приданием политических целей понятиям «самодостаточной жизни» и «хорошей жизни», заимствованным у Аверроэса? Беньямин в «Теолого-политическом фрагменте» не оставил никаких сомнений по поводу того факта, что «порядок мирского должен выстроиться на идее счастья»