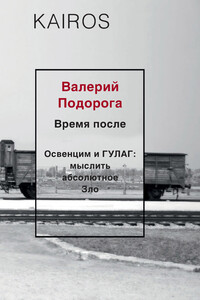Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии | страница 30
Брехт строит театр иначе, чем Чехов. Прежде всего он отказывается от создания именно атмосферы, которая предполагает некую подготовку к принятию чужого ритма, «приручения» к нему, утверждая заранее миметическую основу будущего спектакля. Вот что он заявляет в качестве эстетического принципа: «Если в эпическом театре объектом представления становится определённая атмосфера, потому что она объясняет те или иные действия персонажей, то эта атмосфера должна подвергнуться “очуждению”»>63. Эффект очуждения, Verfremdung, вводится не произвольно, а как некий социальный жест, его цель – уничтожить традиционные «гипнотические поля» аристотелевской поэтики, которые по-прежнему доминируют в так называемом эпическом театре>64. Этот жест очуждения и должен разрушить нашу зачарованность атмосферой, разорвать связь между зрителем, привыкшим наблюдать за происходящим из укромной ниши, причём с тем непременным условием (от этого зависит «удовольствие»), чтобы оно никак его не затрагивало, чтобы его свобода созерцать была абсолютной. Вводится запрет на перевоплощение и любую некритическую идентификацию с героями повествования (пьесы). Актёр должен показывать, а не вживаться в роль; искусство его лицедейства здесь проявляется столь же открыто, как и в комедии дель арто. Как элемент точного и выверенного показа действует актёрский жест. Актёр раздваивается на того, кто показывает роль, и того, кто наблюдает за ней со стороны. Поэтому нет проходных жестов, т. е. нет необходимости в мимической игре, в двусмысленной риторике и ложных жестикуляциях. Всякий жест, как бы мало для него времени не было и как бы его линия не была ограничена в пространстве, должен иметь значение. Общий вывод: каждое движение актёра должно быть значимо. Речь, конечно, идёт здесь не только о Брехте, но и о всей современной практике авангардного театрального искусства, решительно порывающего с традиционной формой мимесиса (аристотелевским требованием «вживания»). Вопрос лишь в том, чтобы научиться различать индивидуальные поэтики, или виды миметических практик, которым следует та или иная литературная традиция.