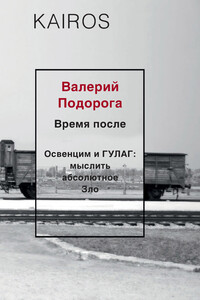Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии | страница 29
Вот почему Чехов размышляет о теле воображаемом, body imaginery, как оно может быть создано, каким образом найти его смещённый центр, как совместить его с атмосферой, поскольку атмосфера перекрывает всю совокупность здесь и сейчас совершаемых жестов и движений, ведь именно она рождает их, чтобы они смогли её выразить и передать, заставить ощутить себя. Чтение сохраняет момент театрализации, и читатель выступает в роли актёра, причём с той же мерой искусности и чувственности, способного не просто к имитации видимого положения, а к переживанию всей атмосферы повествования>60. Значимость атмосферы для повествования велика. Одно из упражнений в подготовке актёра как раз было определено задачей передать, не представить или изобразить, а именно передать движение. Так движение становится значимым, но не теряет своего спонтанного характера. Движение должно передать атмосферу, т. е. воссоздать среду, в которой возможно лишь такое движение. Не следует, конечно, забывать, что наиболее трудная проблема в спектакле – это именно создание атмосферы, переход в иное состояние, время-пространство. Ведь только после того, как мы начинаем чувствовать это новое движение, проникаемся им, воспринимается и само зрелище>61.
29. О(т)чуждение, Verfremdung. Театр Б. Брехта
Но а как же театр Ф. Кафки, А. Арто, В. Мейерхольда, С. Беккета, Д. Хармса и А. Введенского? Ведь если сравнить их с опытом М. Чехова, то они окажутся другим театром, порвавшим с принципом художественной атмосферы?
Искать определение атмосфере можно в разных источниках и приблизительно с равным успехом. Атмосфера толкуется с самых разных позиций и тех условий, которые задаёт сам исследователь. Так что трудно выявить какую-то определённую концепцию «атмосферности», которая будто даже обещана нам. Атмосфера – это и термин, означающий настрой зрителя на определённое высказывание, относящееся, например, к литературному, живописному или театральному языку. Это и метафора некоторых эмоциональных состояний (страх, ненависть, любовь и т. п.), т. е. в таком случае делается упор на чистую физиологию, переживание чего-то как возможности расширения дыхания, освобождения, т. е. как некоего рода свободы. «Легко, дышится», «дыхание степи (гор, моря)», или клич Киркегора: «Возможного, иначе задохнусь!» Но это и