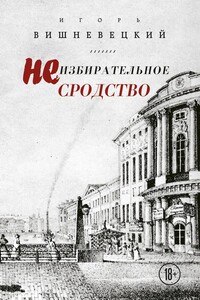Сергей Прокофьев | страница 28
Вообще-то интерес к Скрябину знакомые Прокофьева заметили ещё в 1905–1906 годах. Приезжая летом в Солнцевку, Серёжа играл Василию Моролёву мазурки и прелюдии этого композитора. Моролёв свидетельствовал, что летом 1906-го, говоря о музыке, Прокофьев уже «очень явно симпатизировал» Метнеру и Скрябину. О той же сильной любви юноши-Прокофьева к Метнеру и Скрябину вспоминает и его консерваторская подруга Вера Алперс. А в 1907 году в никопольском доме Моролёвых из-под пальцев заезжавшего погостить Прокофьева уже зазвучали лейтмотивы из «Кольца нибелунга».
Это движение от Шумана к Вагнеру, от Глазунова к Скрябину, что бы сам Прокофьев впоследствии ни говорил, определяло его стремительное развитие в консерваторские годы. Шуман и Глазунов остались, так сказать, в «подсознании». Вагнер и Скрябин стали тем, от чего Прокофьев сознательно отталкивался, вырабатывая свой собственный стиль.
Документом такого движения-развития стали шесть консерваторских сонат Прокофьева, две из которых канули в небытие, а три другие послужили основой для Первой, Второй и Четвёртой сонат, уже помеченных опусами. Не пошла в дело самая первая из сонат консерваторского цикла.
Первая соната в четырёх частях по консерваторскому счёту — собственно, Соната си-бемоль мажор — на самом деле была написана ещё до консерватории (1903–1904). Из четырёх частей её что-либо известно только о первых двух — Presto и Vivo. Известно, что обе были сочинены в октябре 1903 года. Соната осталась невостребованной для дальнейших переделок.
Вторая соната фа минор (1907) в трёх частях стала одночастной Первой сонатой, соч. 1 (1909). О ней мы уже говорили. Это самая «скрябинская» по гармониям и форме из сонат молодого Прокофьева. Мясковский даже предлагал озаглавить её «Tristesse» (Скорбь) или «Tristia» (Скорбные песни). Сам же Прокофьев считал сонату, вопреки мнению окружающих, «определённо академичной по форме». И давал такое пояснение: «Приходится часто сталкиваться с распространённым впечатлением, что соната в нескольких частях являет классический тип, в то время как одночастная — по сути своей модернова. Это ошибочная концепция, поскольку домоцартовская соната часто писалась в одной части; остальные части, написанные в различных формах рондо, были не более чем добавлением к первому и наиважнейшему разделу; потому тот факт, что Скрябин писал некоторые сонаты одночастными, а некоторые в нескольких частях, не значит в развитии его собственной сонатной музыки решительно ничего».