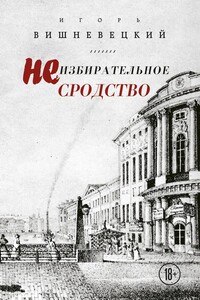Сергей Прокофьев | страница 25
Иосиф Витоль, он же Язепс Витоле, композитор-беляевец, чья музыка, сочетавшая манеру «национально мыслящих» русских с латышским материалом, Прокофьеву нравилась и к которому студент ушёл на свободную композицию от «мелкотравчатого» Лядова, так же не был в восторге от диссонансного и токкатного языка студенческих сочинений Прокофьева, от его эмоциональной стихийности.
И лишь Николай Черепнин, взявший по собственной инициативе «дикаря» Прокофьева в класс дирижирования (в хорошего дирижёра наш герой так и не выработался), приходился по сердцу взрослеющему юноше родственным отсутствием уважения к авторитетам. Так о зрелом, психологически взвинченном Чайковском, столь полюбившемся миллионам интеллигентных русских, Черепнин отзывался с некоторым сожалением. Наиболее интересен был, на его взгляд, другой Чайковский — создавший в первых двух симфониях, в пронзительной и фантастической опере «Черевички» (вдохновлённой «Ночью перед Рождеством» Гоголя) и на некоторых, но не тех, что любимы широкой публикой, страницах «Евгения Онегина» — особый восточнославянский, чрезвычайно поэтичный стиль с «очарованием в гармонии и мелодии», впоследствии отринутый его создателем в пользу скорбной сумеречности и истеричного психологизма. Черепнин как-то сказал студенту: «…вот сцена посещения Татьяной пустого дома Онегина — по-моему, это самая поэтическая сцена у Пушкина, а Чайковский взял и выпустил её…»
Если бы знал Черепнин, зерно какого замысла он заронил в душу Прокофьева! В 1936 году тот напишет музыку к сцене Татьяны в доме Онегина для неосуществлённой инсценировки романа — «разумеется, в стиле Чайковского», то есть в манере наиболее поэтичного и пронзительного Прокофьева, соревнующегося в этом с Чайковским, — а потом, не желая держать музыку, над которой думал со студенческой скамьи, в столе, включит её в начало третьей части последнего завершённого сочинения — Седьмой симфонии. Восточнославянский синтез Чайковского отзовётся, в сильно превращённом виде, и в героико-революционной опере «Семён Котко».
Ранняя инструментальная музыка стремительно расцветавшего Прокофьева — если только понятия «ранняя», «средняя», «поздняя» применимы к юношеским сочинениям, — особенно та, которую он писал в 1905–1906 годах, отличалась шубертовско-шумановским уклоном и вообще была куда ближе к фантастике германского романтизма, чем к сбалансированной созерцательности и к дозированному национализму композиторов-беляевцев, господствовавших в консерватории. А ведь к беляевскому кружку принадлежали все профессора Прокофьева, его покровители и критики, — Лядов, Витоль, даже Черепнин — и конечно сам директор Глазунов. Прокофьев начинал как вполне «нерусский» композитор, мало озабоченный фольклорным элементом в творчестве. Народное музицирование, которое он продолжал каждое лето слышать в Солнцевке, не услаждало его слуха. Сельские жители «спевали» громко и нестройно. Один богатый мужик даже привёз в Солнцевку продукт индустриальной цивилизации — граммофон, но заводили на нём, по впечатлению юноши, отменную дребедень, сопровождавшуюся попытками фальшиво подпевать и невпопад подыгрывать на гармонике, ну, и, разумеется, громким брёхом растревоженных человеческими завываниями собак. Село для сельского уроженца Прокофьева было не кладезем премудрости народной, а ещё одним местом, где можно удобно или же неудобно жить. Едва ли звуковой ландшафт Солнцевки представлялся ему особенно «удобным». Когда же в сочинениях начала и середины 1910-х годов — таких как Второй фортепианный концерт, балет «Сказка про шута» — Прокофьев обратится к русскому мелосу, то обойдётся без ненужного цитирования из народно-песенных источников.