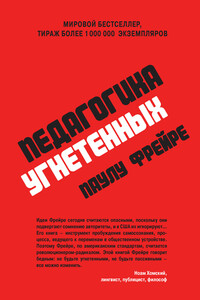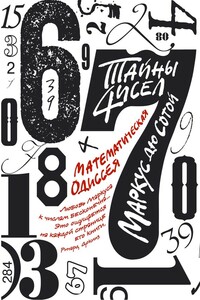Как мы ориентируемся. Пространство и время без карт и GPS | страница 35
Но эта версия культурной категоризации тоже была опровергнута. С помощью аллоцентрической перспективы и стратегии ориентируются самые разные люди, говорящие на самых разных языках, в том числе и те, у которых нет материальных навигационных технологий. Безусловно, иннуиты используют ландшафты памяти, но при этом более чем способны накапливать сведения о местности и привносить новые знания о ее топографии. И точно так же, как отдельные люди могут использовать для навигации сплав разных стратегий, невозможно приписать универсальность ни культурным стратегиям навигации в пространстве, ни языку, не говоря уже о том, чтобы выстроить четкую иерархию культур и назвать их восточными или западными, примитивными или современными, научными или доиндустриальными, эгоцентрическими или аллоцентрическими. «Мышление на высшем уровне, на стадии формальных операций Пиаже, – пишет антрополог Чарльз Фрейк, – не является, как утверждали многие, признаком современного, грамотного, научного мышления; скорее это общий признак человеческого разума, когда он сталкивается с достаточно насущной и достаточно трудной задачей, имеющей достаточно четкую цель»[52]. И более того, некоторые из так называемых врожденных отличий могут быть связаны в основном с топографией местности, где мы живем. Как выразился Альфредо Ардила, колумбийский ученый, жизнь современного города требует логического применения математических координат, тогда как почти во всей своей истории люди для ориентации в природе интерпретировали пространственные сигналы и обращались к памяти, а также вычисляли расстояния по ориентирам в окружающей среде. В зависимости от того, где мы родились, от того, на каком языке мы говорим, и от топографии той местности, в которой мы живем, мы, как кажется, способны адаптироваться и повышать мастерство в ориентировании – в той или иной мере – при помощи самых разных когнитивных стратегий.
В ресторане «Приют навигатора» в Икалуите Ауа поделился со мной еще одной своей мыслью: по его словам, иннуиты умели ориентироваться в Арктике потому, что обладали лучшей памятью, чем каллунаат, хотя он и не мог привести научных доказательств. Эта догадка проникает в самую суть интригующих взаимоотношений между способностью к навигации и памятью человека. И пусть нейробиология лишь недавно начала открывать физиологическую основу этой связи, но та завораживала еще древних греков, проявлявших огромное уважение к людям, способным запоминать огромное количество информации. Например, в «Естественной истории» Плиния Старшего говорится о том, что Митридат Понтийский знал 22 языка, а царь Кир помнил имя каждого воина своей армии. В латинской книге «Риторика для Геренния» (Ad Herennium), датируемой приблизительно 80 г. до н. э., неизвестный автор (раньше авторство приписывали Цицерону) говорит о том, что Сенека мог выслушать 200 учеников, каждый из которых произносил одну стихотворную строку, а затем в точности воспроизвести все строки – начиная с последней и заканчивая первой. Также говорили, что он мог повторить около двух тысяч имен в том порядке, в котором услышал их один раз. Другой преподаватель риторики, Симпликий, мог прочесть «Энеиду» Вергилия в обратном порядке.