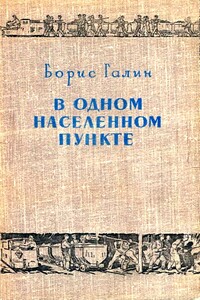Избранное | страница 5
Галин написал о красоте их души…
Надо с удовлетворением сказать, что Галин лаконично, в действительно избранных очерках, — некоторые художественно сильные произведения остались за пределами сборника, — ярко показал нам типические черты людей тридцатых годов с их чистыми мечтами о завтрашнем дне социализма.
Прежде чем обратиться к военным очеркам писателя в цикле «Сороковые», я хотел бы поделиться с читателями воспоминаниями о радостных днях снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. То бушевали метели, то наступала оттепель с лужами на фронтовых дорогах. Бои были на редкость упорными, гитлеровцы яростно защищались, особенно на участке Пушкин — Красное Село.
Именно здесь я, ленинградский фронтовик, 900 дней провоевавший в блокаде, встретил специального корреспондента «Красной звезды» Галина. В боевой обстановке, в зоне вражеского огня писатель держался удивительно стойко.
Летом этого же года я встретил Галина в боях по освобождению Выборга, и опять он шагал под огнем с привычной солдатской выдержкой.
Почему надо об этом вспомнить? Потому, что Борис Галин был «белобилетником». Юный типограф, он попал ненароком в колесо печатной машины, и ему вырвало мышцы руки. Мобилизации в действующую армию, таким образом, Галин не подлежал. В газете «Красная звезда» он был вольнонаемным, не имел воинского звания, но все время находился на фронте, на переднем крае.
Отсюда-то основательность, добротность фронтовых очерков, написанных с обилием реалистических деталей, с доскональным знанием военного быта и психологии солдата. В этом благотворно проявилась «въедливость» писателя при сборе материала. Даже в оперативных военных корреспонденциях Галин не уклонился от своих методов очеркового творчества.
Военный цикл можно прочесть как летопись боев, то неудачных, то удачных, а после Сталинградской битвы — только сокрушительных, вплоть до взятия Берлина.
Однако привлекательнее увлечься глубоким, правдивым изображением гуманизма советских воинов. И полковник Сидоров, и танкист Гусаковский, и генерал Аршинцев, и фронтовики Рябошапка, Гурко, и сын В. И. Чапаева Александр, такие ожесточенные в бою, — в глубине души добрые люди. Это покажется странным в разговоре о фронтовиках, но это так — добрые, отзывчивые.
Показательно, что Галин всегда старается изобразить трудовое прошлое своих героев, пусть скупо. В этом коренится глубокая мысль: труд — самое святое в жизнедеятельности советского человека, война нам была навязана извне, даже в разгаре сражений фронтовики жили мечтою о мирных днях — о семье, о трудовом призвании.