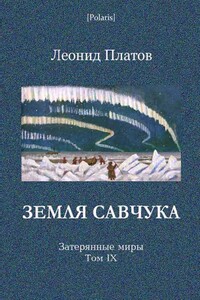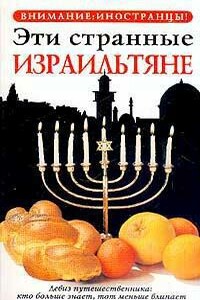Листья лофиры | страница 49
А Птичкин переживает свое.
— Прилетел, понимаешь, и схватило меня, — говорит он. — Хорошо еще, что в поле выехать не успел. А наши уже в Канкане или даже улетели в Масенту…
Канкан, Конакри, Масента, Кисидугу… А сколько поэзии таится для меня и в других названиях — Эйлигхем, Баингол, Шагонар, Хаирхан… Аль Идриси употребил слово «Сибирь» как синоним холода и суровости, но это потому, что он никогда не был в Сибири. Я-то видел ее и в пятидесятиградусный мороз с огненно-пылающим солнцем над синими снежными равнинами, и в зной, когда затягивало дали маревом, земля трескалась и зелень блекла и становилась серой, как придорожная пыль; я видел тихие теплые ночи с нежно-фиолетовой лунной радугой, видел большие розовые листья ревеня, доверчиво поднятые к солнцу на вершине скалистого гольца, и белые пятна снежников, и тут же цветущие фиалки, незабудки, огоньки, примулы, гречихи… Не берусь угадывать, какими окажутся мои окончательные впечатления об Африке, но нужно как-то избежать односторонности, нужно запомнить красную землю, горячее неслепящее солнце, холодное Канарское течение, сухие тропические леса, черные пожарища, точеные торсы женщин, сильные добрые руки мужчин…
Я чувствую, что рассуждения мои становятся бессвязными, но отказаться от них невозможно, тем более что Птичкин, наконец все рассказавший про аппендицит, то и дело восклицает:
— А помнишь?
— Помню.
Помню ночи такие темные, что горы растворялись во мраке и угадать их вершины можно было лишь по черным провалам в звездном небе. Свое плутание по тайге без еды, когда пришлось мне на классический манер поддерживать бренное существование одними ягодами, — помню и до сих пор храню в глубине души глубочайшее почтение к железобетонным литературным персонажам, умудрявшимся в таких же условиях уплетать ягоды денно и нощно, по неделе и более; мне же в первый день так обожгло рот ягодной кислотой, что потом я уже при всем желании не мог есть даже спелого дикого крыжовника… Помню наших лошадей — славных монголок, обладавших лишь одним поразительным недостатком: ночью, если мы засыпали в седле, они обязательно сходили с тропы и сонно шагали по самой бровке обрыва над рекой. Помню, как били мы кайлами и лопатами шурфы на старых речных террасах; как мыли породу в замерзающих реках; у меня был не лоток, а металлический ковш, и вечером мы кипятили в нем чай на костре… Помню внезапные снегопады, после которых тайга за ночь превращалась из зеленой в янтарную… Помню боевые крики маралов, шум их неосторожных шагов… Помню сухие степи предгорий с зарослями караганы, цветы которой были похожи на маленьких желтых мотыльков, облепивших кусты. И цветущие ирисы — крупные, синие, словно завязанные узелком. И песню о бригантине, которую пели мы на переходах; лишь недавно узнал я, что написал ее поэт Павел Коган, юношей погибший на фронте в первый же год войны…