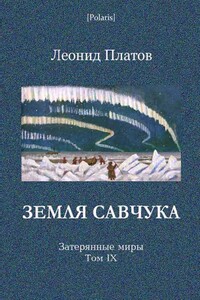Листья лофиры | страница 41
И они удаляются, а я достаю фонарь и щелкаю выключателем. Не горит. Я раскрываю фонарь и проверяю, все ли там на месте. Все на месте! Щелкаю. Не горит. Видимо, отсырела батарейка. Но у меня есть запасная. Меняю батарейку и опять щелкаю. И опять не горит. И вторая батарейка отсырела.
Нечто вроде легкого озноба проходит у меня по спине, и я начинаю подозревать, что нахожусь на грани непоправимого… Я выхожу на балкон, тот самый, на котором собирался ловить бабочек, задумываюсь, пытаясь найти выход из положения, и вдруг спохватываюсь, что не сдвинул стеклянные двери — ведь черт те сколько живности налетит на свет! Я смотрю на лампочку и — удивительно! — хоть бы одна букашка кружилась возле нее. Теперь я нарочно раздвигаю двери до конца, беру на всякий случай сачок и усаживаюсь под лампочкой… Прошлым летом я вот так же сидел под фонарем в Прикаспийской полупустыне, на платформе станции Верхний Баскунчак, и пытался писать. Но мне на голову, на Дневник, за шиворот сыпалось такое количество жуков и бабочек, с разлета ударявшихся о фонарь, что пришлось ретироваться в темноту, отложив записи до лучшего времени… А здесь… Вот уж нежданный африканский сюрприз! Даже если бы я просидел под лампочкой до утра, ни одна бабочка все равно не попала бы ко мне в морилку…
Выскочив на улицу, я убеждаюсь, что наши уже уехали. Значит, я поневоле на весь вечер предоставлен самому себе и могу два-три часа провести так, как мне хочется.
Я выхожу на балкон и становлюсь лицом к темному океану. С материка тянет бриз, и жесткая листва пальм чуть слышно шелестит во мраке. В чернильной океанской дали вспыхивает и гаснет, потом вновь вспыхивает огонь; мне кажется, что это огонь маяка на острове Тамара. В соответствии с французским произношением в названии этом нужно делать ударение на последнем слоге, но я произношу название иначе, произношу как дорогое мне женское имя, и оно переносит меня в Москву, под пасмурное с тусклым фольговым блеском мартовское небо, в заснеженные леса Подмосковья… В ясную погоду, при солнце, мартовские тени — самые синие, самые густые, и совсем недавно мы любовались ими, бродя на лыжах по лесу… Во мраке слабо проступает черное лицо Селябабуки с ремешком от фуражки, опущенным на подбородок, и оно воскрешает в памяти другое лицо — усталое лицо отца; он в гимнастерке с петличками и кубиками, со значком «Ворошиловский стрелок» на груди, в синей кавалерийской фуражке со звездочкой, и черный блестящий ремешок опущен на его гладко выбритый подбородок. Только что закончились ученья, и отец по пути в лагерь завернул на дачу под Ленинградом, где мы живем. Он сидит на коне — на тонконогом вороном красавце. Отец берет меня в седло, мы рысью едем по лесным дорогам, и копыта коня глухо бьют по влажной мягкой земле… Это было в ту далекую пору, когда я копил деньги на мятные лепешки, чтобы отправиться в Африку… А в Германии завершался фашистский переворот, и все взрослые говорили и думали о неизбежной близкой войне…