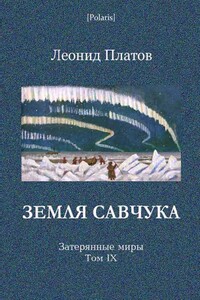Листья лофиры | страница 22
А Ляхбаби — умного человека с застенчивыми грустными глазами, — неужели французские застенки не убедили его в том, что человечество слышало за свою историю слишком много благостных проповедей и видело слишком много плохих дел, чтобы впредь судить об истинности гуманизма по словам?.. По-моему, Ляхбаби это великолепно понимает. Быть может, именно поэтому он так пристально, и не без тревоги, следит за развитием ракетной техники. Да и только ли он?
Нам подают крепкий кофе в маленьких чашечках, и начинается общий оживленный разговор о литературе, о назначении искусства, о его роли в современную эпоху, о положении писателей в Марокко и Советском Союзе, но я почти не принимаю участия в разговоре.
Мне мало понять Ляхбаби и Аль Идриси. Их сомнения, их противопоставление земли и неба затрагивают нечто сокровенно дорогое для меня и говорят о неизмеримо большем — о влиянии науки на мышление людей, на их психологию, о новых горизонтах, о старых — «нан плюс ультра!» — преградах. Для меня, да и для очень многих моих соотечественников, Земля и космос давно едины. Я занимаюсь астрогеографией, распространяя земную науку на другие небесные тела, а профессор Владыкин, мой сосед по номеру в гостинице, стремится даже внедрить астроботанические идеи в практику сельского хозяйства: взяв за основу одно из важнейших положений астроботаники, по которому оптические свойства растений могут сильно изменяться в зависимости от природных условий, Владыкин пытается вывести сельскохозяйственные культуры с повышенной способностью поглощать солнечный луч, что должно повысить калорийность продуктов… Попробуйте-ка тут отделить небо от земли!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Марокканская туристская компания прислала за нами в Рабат свой автобус. Он гораздо вместительнее посольского, и кажется, что нас стало меньше.
Снова мы едем по дороге Касабланка — Рабат, снова, но теперь уже справа, бьет в берега темный холодный океан, и белые веера брызг поднимаются над зеленеющими равнинами Африки.
Возле рабочего места водителя висит табличка, запрещающая разговаривать с шофером. Там нет оговорки — во время движения; нельзя — и все. Мы нарушили запрет, и знаем, что наш шофер — испанец, совсем юным человеком сражавшийся в республиканских войсках за Мадрид. Теперь в его черных волосах — проседь. Более двадцати лет он не видел своей родины. Часть испанских эмигрантов, детьми или взрослыми покинувших родину после поражения республиканцев, недавно вернулась в Испанию. Но шофер наш не верит фашистскому диктатору и продолжает жить в Марокко. Он, конечно, прав, — диктаторам верить нельзя… К сожалению, мы ничего не можем рассказать нашему шоферу о его родине. Наш самолет, летевший из Парижа на Касабланку, не пролетал над Испанией. Только некоторое время были видны полускрытые облаками и снегом Пиренеи. Я пытался рассмотреть их в бинокль, но мешали пропеллеры и солнце. Так и остались в памяти лишь черные ребра скал на фоне цвета савана.