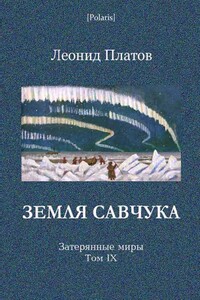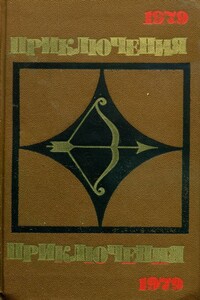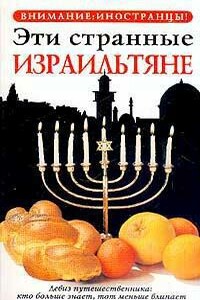Орлиный услышишь там крик... | страница 26
Камни в такой причудливой кладке, которой позавидовал бы любой строитель.
— Эти камни — капризная штука, — говорит Юра Баранов.
Из всех окружающих скал нам показалась подходящей только эта. Вверху темнеет уступ, на котором трудятся, расчищая площадку от камней, Николай Васильевич с Володей. Мы видим их крошечные, не больше муравьев, фигурки.
До уступа метров сто. Кое-где осыпь, кое-где почти отвесная стена. Можно было бы поднять осадкомер на веревке. Но во-первых, такой веревки у нас нет, во-вторых, если бы даже была, подъем мог бы стать рискованным: веревка, перетершись на острых камнях, могла порваться, и стошестидесятикилограммовая «бандура» разлетелась бы на кусочки.
Делаем из веревки петли, подобные тем, что применяют грузчики, когда переносят мебель.
— Ну что ж, пошли, — говорит, вздохнув, Юра Баранов.
Петли врезаются в плечи. Кости, кажется, хрустят от тяжести. Мы ползем по камням, цепляясь за любой маломальский уступ или щель. Метр вверх. Остановка. Снова метр…. Всей грудью втягиваем воздух, но его нет. Будто ты надел противогаз и кто-то перегнул его трубку. Голову пронизывает резкая боль. Кровь идет из носа. Переворачиваемся на спину. Юра кладет на голову завернутый в бинт лед. Нос зажать нельзя. Он опален. Старая кожа облезла, а новая опять обгорела.
Лежим минуту, другую. Хочется, чтобы время остановилось. Хочется дышать, вбирая воздух во всю силу своих легких, но только лежать, не шевелясь, не тревожа мышц, которые ноют и просят пощады.
«… И какие-то люди в смешном катафалке повезли ее к богу на бал…» — доносится до нас голос Володи Зябкина. Мы приподнимаем голову. Эта смешная фраза стала для нас теперь чем-то вроде пароля.
— Идем, — говорит Юра. — Честное слово, мы дотащим эту штуку!
И мы карабкаемся снова, скользя на осыпи, обдирая руки на острых камнях. Сто метров — это сто шестьдесят шагов на равнине. У нас же их тысячи — мелких, дрожавших от тяжести и разреженности воздуха, растянутых на целый час.
Как и день назад у Хан-Тенгри, нет здесь подъемных кранов. Есть руки да ноги. Да какая-то злость. Она вспыхивает на последних метрах пути. Злость на крутизну скалы, на горячее солнце, на галок, которые склевали хорошие продукты и обрекли нас на жесткий рацион. Злость на то, что завтра надо идти опять по леднику километров семьдесят, потом до первых селений километров сто и тащить рюкзаки па своих больных плечах. Злость на избитые и обмороженные руки, на обожженное лицо, на потрескавшиеся губы, на сердца и легкие, для которых так мало воздуха.