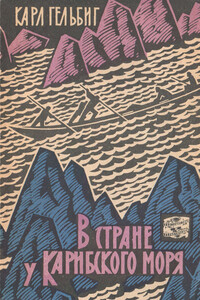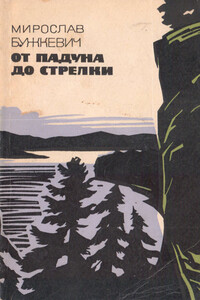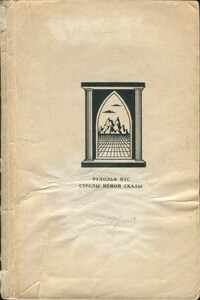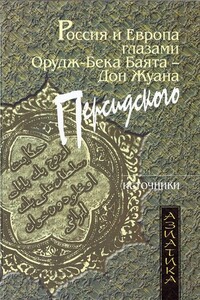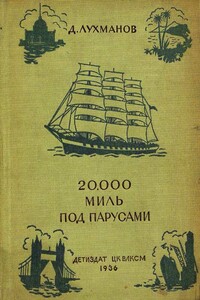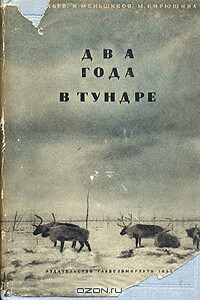Последний аргиш | страница 57
Тропа идет берегом, за излучиной я оглянулся и не увидел землянки. Один. Теперь только вперед.
Больше всего я боялся солнца. Да, солнца. Сколько до его восхода — еще пять-шесть часов? Если таким будет путь, за эти пять часов пройду половину. А там день ожидания — и по ночному насту опять в дорогу. По ночному насту! А будет ли еще наст?
В серых сумерках чуть поблескивают льдинки. В тишине резко трещит наст. Еще пройдено пять, десять, пятнадцать шагов. Нога то резко погружается в снег, то ступает на твердую льдину, и невольно шаг убыстряется. Шаг становится тверже, и, хрупая, разбивая наст, проваливаюсь по пояс. Выбрался. Жарко. Мокрая рубашка прилипла к телу. Сколько же еще впереди?
Переливчатый звон доносится с крутого яра — сосульки падают с ветвей на снег. Опять тихо. И вдруг чудятся шаги, хруст ветвей и мерное тонкое бульканье — родник течет под снеговой шапкой, укрывшей тайгу и реку. Снова чудится шорох вверху. Пожалуй, такой наст выдержит медведя. Весна — его время. В кармане перочинный нож. И снова шаг за шагом… Неужто скоро рассвет?
Кто узнает, где остался ты? Те, что в селении, думают— за тобой пришли упряжки, те, что на станке, надеются, что ты остался на месте. Ведь только тебе одному пришло в голову уйти по насту в весеннюю тайгу. Иди, ползи, завтра может быть еще хуже.
Впереди на реке появилась темная точка, она медленно ворочается. Иду ей навстречу, а рука тянется к перочинному ножу. По насту не побежишь. Стоять глупо. Небо вдали чуть золотится, и тухнут бледные звезды. Темное пятно на реке медленно движется навстречу. Ну что же — закон тайги…
Собачья упряжка подъезжала к станку, когда лучи солнца съели наст и санка проваливалась в мокрую жижу рыхлого снега. Старик оказался прав только в одном — той весной наста больше не было.
На собачьей упряжке приехал ты, Дагай. Я тогда забыл спросить, как ты очутился на северных границах ваших кочевий. Ты пришел вовремя. А теперь? Что же это — молчаливая обида на нас, или ваши люди не хотят или боятся нарушить обычай?
Мы не в заброшенном краю, где о событиях последних дней узнают через три года. Здесь не мир темноты и невежества. На песчаной косе в путины веселый киномеханик устраивает сеансы.
Смеркается. На широком белом полотне, укрепленном на опорных шестах палатки, двигаются тени сказочного мира.
Трудно забыть вечер, когда буквально все живое — люди и стая лаек — разместилось на песке перед экраном. Рыбаки в удобной на промысле национальной одежде, среди обширной тайги и воды, напоминали людей далекого прошлого. На этих людей с экрана смотрело точеное лицо Сильваны Пампанини, и зрители переживали трагедию Анны. Мелькали кадры с непонятным городским бытом, мчащимися лимузинами.