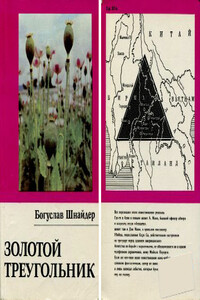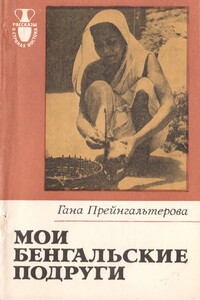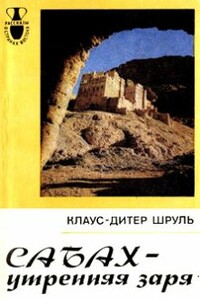Остров, куда не вернулся мир | страница 17
Политика Токио на Окинаве с самого начала была враждебна местным традициям, обычаям и языку — всему, что стояло на пути полной культурной ассимиляции маленького народа. Провозгласив, что различий между японцами и рюкюсцами не существует, новые власти старались, чтобы их действительно не было. Главным препятствием для японизации Окинавы они считали местный язык. В самом деле, приехав в 1879 году управлять новой префектурой, японские чиновники могли объясняться без переводчика лишь с немногими аристократами. Изучать местный язык они не желали, мириться с таким положением тоже. И в старых, и во вновь создаваемых школах обучение было приказано вести только на японском. По-рюкюски ученикам запрещалось говорить даже на переменах. Преступившему запрет на голову надевали бумажный колпак, избавиться от которого можно было, лишь передав его другому нарушителю. Из школьных программ оказалась исключенной и местная история, и литература.
Приезжие просветители нередко презирали рюкюсцев как людей второго сорта и открыто заявляли, что, кроме начального образования, им ничего не нужно. Так, например, считал директор префектурального департамента просвещения Кихати Кодама. Занимая одновременно пост директора средней школы в Сюри — единственной во всей префектуре, — он по своей инициативе исключил в 1893 году из программы английский язык. «Для окинавцев — это ненужная роскошь», — объяснил он. В 1895 году ученики бойкотировали занятия. При поддержке местной общественности они добились отставки директора и восстановления преподавания английского языка.
Не стоило, может быть, заострять внимание на событиях такой давности, если б не их прямое отношение к сегодняшней Окинаве. После второй мировой войны прогрессивная общественность приложила немало сил, чтобы поднять уровень образования, но и сейчас он на 30–40 процентов ниже, чем в среднем по Японии: ведь начинать пришлось почти с нуля. В 1941 году там насчитывалось лишь 14 средних школ, 9 профессионально-технических и 2 педагогических училища, не было ни одного высшего учебного заведения. В Токио тогда считали, что для программы японизации начального образования вполне достаточно. Более высоких целей там, судя по всему, не ставили. Плоды дискриминации Окинава пожинает до сих пор. Здесь не хватает ни инженеров, ни агрономов, ни экономистов, ни просто квалифицированных рабочих. Во всей сорок седьмой префектуре с ее миллионным населением есть лишь чуть более пятисот врачей, которые работают главным образом в больших городах. Поэтому не удивительно, что здесь успешно практикуют более полутора тысяч шаманок.